Шантарам читать онлайн
Скачать или прочитать книгу Шантарам онлайн бесплатно
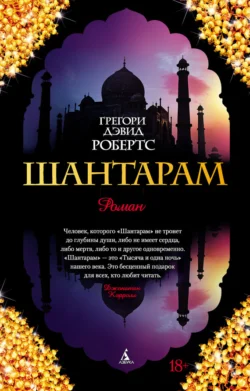
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КНИГУ Шантарам
Сюжет книги Шантарам
У нас на сайте вы можете прочитать книгу Шантарам онлайн.
Авторы данного произведения: Грегори Дэвид Робертс, Михаил Абушик, Лев Высоцкий — создали уникальное произведение в жанре: зарубежные приключения, современная зарубежная литература. Далее мы в деталях расскажем о сюжете книги Шантарам и позволим читателям прочитать произведение онлайн.
Представляем читателю один из самых поразительных романов начала XXI века (в 2015 году получивший долгожданное продолжение – «Тень горы»). Эта преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть, разошлась по миру тиражом четыре миллиона экземпляров (из них полмиллиона – в России) и заслужила восторженные сравнения с произведениями лучших писателей Нового времени, от Мелвилла до Хемингуэя. Подобно автору, герой этого романа много лет скрывался от закона. Лишенный после развода с женой родительских прав, он пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений и был приговорен австралийским судом к девятнадцати годам заключения. Бежав на второй год из тюрьмы строгого режима, он добрался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием и участвовал в разборках индийской мафии, а также нашел свою настоящую любовь, чтобы вновь потерять ее, чтобы снова найти…
Больше интересных фактов об авторе и его новой книге книге читайте в ЛитРес: Журнале
Вы также можете бесплатно прочитать книгу Шантарам онлайн:
Грегори Дэвид Робертс
Шантарам #1
Представляем читателю один из самых поразительных романов начала XXI века (в 2015 году получивший долгожданное продолжение – «Тень горы»). Эта преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть, разошлась по миру тиражом четыре миллиона экземпляров (из них полмиллиона – в России) и заслужила восторженные сравнения с произведениями лучших писателей Нового времени, от Мелвилла до Хемингуэя. Подобно автору, герой этого романа много лет скрывался от закона. Лишенный после развода с женой родительских прав, он пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений и был приговорен австралийским судом к девятнадцати годам заключения. Бежав на второй год из тюрьмы строгого режима, он добрался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием и участвовал в разборках индийской мафии, а также нашел свою настоящую любовь, чтобы вновь потерять ее, чтобы снова найти…
Больше интересных фактов об авторе и его новой книге книге читайте в ЛитРес: Журнале (https://journal.litres.ru/ot-prestupnika-otbyvayushhego-srok-za-grabezh-do-vsemirno-izvestnogo-pisatelya-istoriya-gregori-devida-robertsa/)
Грегори Дэвид Робертс
Шантарам
Моей матери
Gregory David Roberts
Shantaram
Copyright © 2003 by Gregory David Roberts
All rights reserved
Перевод с английского Льва Высоцкого, Михаила Абушика
Это первоклассный роман, произведение высочайшего искусства и исключительной красоты.
Пэт Конрой
После прочтения первого романа Грегори Дэвида Робертса, «Шантарам», собственная жизнь покажется вам пресной… Робертса сравнивали с лучшими писателями, от Мелвилла до Хемингуэя.
Wall Street Journal
Захватывающее чтение… Предельно искренняя книга, такое ощущение, что сам участвуешь в изображаемых событиях. Это настоящая сенсация.
Publishers Weekly
Мастерски написанный готовый киносценарий в форме романа, где под вымышленными именами выведены реальные лица… Он раскрывает нам Индию, которую мало кто знает.
Kirkus Review
Вдохновенное повествование.
People
В высшей степени увлекательный, яркий роман. Перед тобой, как на экране, проходит жизнь во всей своей неприкрашенной красоте, оставляя незабываемое впечатление.
USA Today
«Шантарам» – выдающийся роман… Фабула настолько увлекательна, что сама по себе представляет большую ценность.
New York Times
Превосходно… Широкая панорама жизни, свободное дыхание.
Time Out
В своем романе Робертc описывает то, что сам видел и пережил, но книга выходит за рамки автобиографического жанра. Да не отпугнет вас ее объем: «Шантарам» – одно из самых захватывающих повествований о человеческом искуплении в мировой литературе.
Giant Magazine
Удивительно то, что после всего пережитого Робертc смог вообще что-нибудь написать. Он сумел выбраться из бездны и уцелеть… Его спасением была любовь к людям… Настоящая литература способна изменить жизнь человека. Сила «Шантарама» – в утверждении радости прощения. Надо уметь сопереживать и прощать. Прощение – это путеводная звезда в темноте.
Dayton Daily News
«Шантарам» насыщен колоритным юмором. Чувствуешь пряный аромат хаоса бомбейской жизни во всем его великолепии.
Minneapolis Star Tribune
«Шантарам» поистине эпическое произведение. Это необъятный, не умещающийся ни в какие рамки, непричесанный, неотразимый, неожиданный роман.
The Seattle Times
Если бы меня спросили, о чем эта книга, я ответил бы, что обо всем, обо всем на свете. Грегори Дэвид Робертc сделал для Индии то же, что Лоренс Даррелл для Александрии, Мелвилл для южных морей и Торо для озера Уолден. Он ввел ее в круг вечных тем мировой литературы.
Пэт Конрой
Я никогда не читал столь интересной книги, как «Шантарам», и вряд ли прочту в ближайшем будущем что-нибудь превосходящее ее по широте охвата действительности. Это увлекательная, неотразимая, многогранная история, рассказанная прекрасно поставленным голосом. Подобно шаману – ловцу привидений, Грегори Дэвиду Робертсу удалось уловить самый дух произведений Анри Шарьера, Рохинтона Мистри, Тома Вулфа и Марио Варгаса Льосы, сплавить это все воедино силой своего волшебства и создать уникальный памятник литературы. Рука бога Ганеши выпустила на волю слона, чудовище бегает, выйдя из-под контроля, и тебя невольно охватывает страх за храбреца, вознамерившегося написать роман об Индии. Грегори Дэвид Роберте – гигант, которому эта задача оказалась по плечу, он блистательный гуру и гений, без всякого преувеличения.
Мозес Исегава
Человек, которого «Шантарам» не тронет до глубины души, либо не имеет сердца, либо мертв, либо то и другое одновременно. Я уже много лет не читал ничего с таким наслаждением. «Шантарам» – это «Тысяча и одна ночь» нашего века. Это бесценный подарок для всех, кто любит читать.
Джонатан Кэрролл
«Шантарам» великолепен. И самое главное, он преподает нам урок, показывая, что те, кого мы бросаем в тюрьму, тоже люди. Среди них могут встретиться исключительные личности. И даже гениальные.
Эйлет Уолдман
Робертc побывал в таких краях и заглянул в такие уголки человеческой души, какие большинство из нас могут увидеть разве что в воображении. Вернувшись оттуда, он поведал нам историю, которая проникает в душу и утверждает вечные истины. Робертсу довелось пережить печаль и надежду, лишения и драму жизненной борьбы, жестокость и любовь, и он прекрасно описал все это в своем эпическом произведении, которое от начала до конца проникнуто глубоким смыслом, раскрытым уже в первом абзаце.
Барри Айслер
«Шантарам» абсолютно уникален, дерзок и неистов. Он застигает врасплох человека с самым необузданным воображением.
Elle
«Шантарам» покорил меня с первой же строки. Это потрясающая, трогательная, страшная, великолепная книга, необъятная, как океан.
Detroyt Free Press
Это всеобъемлющий, глубокий роман, населенный персонажами, которые полны жизни. Но самое сильное и отрадное впечатление оставляет описание Бомбея, искренняя любовь Робертса к Индии и населяющим ее людям… Робертc приглашает нас в бомбейские трущобы, опиумные притоны, публичные дома и ночные клубы, говоря: «Заходите, мы с вами».
Washington Post
В Австралии его прозвали Благородным Бандитом, потому что он ни разу никого не убил, сколько бы банков ни ограбил. А после всего он взял и написал этот совершенно прекрасный, поэтичный, аллегорический толстенный роман, который буквально снес мне крышу.
Это поразительный читательский опыт, – по крайней мере, я был поражен до глубины души. Я только что видел первый вариант сценария и уверяю вас: фильм будет выдающийся.
Джонни Депп
Часть 1
Глава 1
Мне потребовалось много лет и странствий по всему миру, чтобы узнать все то, что я знаю о любви, о судьбе и о выборе, который мы делаем в жизни, но самое главное я понял в тот миг, когда меня, прикованного цепями к стене, избивали. Мой разум кричал, однако и сквозь этот крик я сознавал, что даже в этом распятом, беспомощном состоянии я свободен – я могу ненавидеть своих мучителей или простить их. Свобода, казалось бы, весьма относительная, но, когда ты ощущаешь только приливы и отливы боли, она открывает перед тобой целую вселенную возможностей. И сделанный тобой выбор между ненавистью и прощением может стать историей твоей жизни.
В моем случае это долгая история, заполненная людьми и событиями. Я был революционером, растерявшим свои идеалы в наркотическом тумане, философом, потерявшим самого себя в мире преступности, и поэтом, утратившим свой дар в тюрьме особо строгого режима. Сбежав из этой тюрьмы через стену между двумя пулеметными вышками, я стал самым популярным в стране человеком – ни с кем не искали встречи так настойчиво, как со мной. Удача сопутствовала мне и перенесла меня на край света, в Индию, где я вступил в ряды бомбейских мафиози. Я был торговцем оружием, контрабандистом и фальшивомонетчиком. На трех континентах меня заковывали в кандалы и избивали, я не раз был ранен и умирал от голода. Я побывал на войне и шел в атаку под огнем противника. И я выжил, в то время как люди вокруг меня погибали. Они были по большей части лучше меня, просто жизнь их сбилась с пути и, столкнувшись на одном из крутых поворотов с чьей-то ненавистью, любовью или равнодушием, полетела под откос. Слишком много людей мне пришлось похоронить, и горечь их жизни слилась с моей собственной.
Но начинается моя история не с них и не с мафии, а с моего первого дня в Бомбее. Судьба забросила меня туда, втянув в свою игру. Расклад был удачен для меня: мне выпала встреча с Карлой Саарнен. Стоило мне заглянуть в ее зеленые глаза, и я сразу пошел ва-банк, приняв все условия. Так что моя история, как и все остальное в этой жизни, начинается с женщины, с нового города и с небольшой толики везения.
Первое, на что я обратил внимание в тот первый день в Бомбее, – непривычный запах. Я почувствовал его уже в переходе от самолета к зданию аэровокзала – прежде, чем услышал или увидел что-либо в Индии. Этот запах был приятен и будоражил меня в ту первую минуту в Бомбее, когда я, вырвавшись на свободу, заново вступал в большой мир, но он был мне абсолютно незнаком. Теперь я знаю, что это сладкий, тревожный запах надежды, уничтожающей ненависть, и в то же время кислый, затхлый запах жадности, уничтожающей любовь. Это запах богов и демонов, распадающихся и возрожденных империй и цивилизаций. Это голубой запах кожи океана, ощутимый в любой точке города на семи островах, и кроваво-металлический запах машин. Это запах суеты и покоя, всей жизнедеятельности шестидесяти миллионов животных, больше половины которых – человеческие существа и крысы. Это запах любви и разбитых сердец, борьбы за выживание и жестоких поражений, выковывающих нашу храбрость. Это запах десяти тысяч ресторанов, пяти тысяч храмов, усыпальниц, церквей и мечетей, а также сотен базаров, где торгуют исключительно духами, пряностями, благовониями и свежими цветами. Карла назвала его однажды худшим из самых прекрасных ароматов, и она была, несомненно, права, как она всегда бывает по-своему права в своих оценках. И теперь, когда бы я ни приехал в Бомбей, прежде всего я ощущаю этот запах – он приветствует меня и говорит, что я вернулся домой.
Второе, что сразу же дало о себе знать, – жара. Уже через пять минут после кондиционированной прохлады авиасалона я вдруг почувствовал, что одежда прилипла ко мне. Мое сердце колотилось, отбивая атаки незнакомого климата. Каждый вздох был маленькой победой организма в ожесточенной схватке. Впоследствии я убедился, что этот тропический пот не оставляет тебя ни днем ни ночью, потому что он порожден влажной жарой. Удушающая влажность превращает всех нас в амфибий; в Бомбее ты непрерывно вдыхаешь вместе с воздухом воду и постепенно привыкаешь так жить, и даже находишь в этом удовольствие – или уезжаешь отсюда.
И наконец, люди. Ассамцы, джаты и пенджабцы; уроженцы Раджастхана, Бенгалии и Тамилнада, Пушкара, Кочина и Конарака; брамины, воины и неприкасаемые; индусы, мусульмане, христиане, буддисты, парсы, джайны, анимисты; светлокожие и смуглые, с зелеными, золотисто-карими или черными глазами – все лица и все формы этого ни на что не похожего многообразия, этой несравненной красоты – Индии.
Несколько миллионов бомбейцев плюс миллион приезжих. Два лучших друга контрабандиста – мул и верблюд. Мулы помогают ему переправить товар из страны в страну в обход таможенных застав. Верблюды – простодушные странники. Человек с фальшивым паспортом втирается в их компанию, и они без лишнего шума перевозят его, нарушая границу и сами о том не подозревая.
Тогда все это было мне еще неведомо. Тонкости контрабандного промысла я освоил значительно позже, спустя годы. В тот первый приезд в Индию я действовал чисто инстинктивно, и единственной контрабандой, какую я перевозил, был я сам, моя хрупкая преследуемая свобода. У меня был фальшивый новозеландский паспорт, в котором вместо фотографии прежнего владельца была вклеена моя. Я проделал эту операцию самостоятельно и небезупречно. Рядовую проверку паспорт должен был выдержать, но, если бы у таможенников возникли подозрения и они связались бы с посольством Новой Зеландии, подделка очень быстро раскрылась бы. Поэтому сразу после вылета из Окленда я стал искать в самолете подходящую группу туристов и обнаружил компанию студентов, уже не в первый раз летевших этим рейсом. Расспрашивая их об Индии, я завязал с ними знакомство и пристроился к ним у таможенного контроля в аэропорту. Индийцы решили, что я принадлежу к этой раскрепощенной и бесхитростной братии и ограничились поверхностным досмотром.
Уже в одиночестве я вышел из здания аэропорта, и на меня тут же накинулось жалящее солнце. Ощущение свободы кружило мне голову: еще одна стена преодолена, еще одна граница позади, я могу бежать на все четыре стороны и найти где-нибудь убежище. Прошло уже два года после моего побега из тюрьмы, но жизнь того, кто объявлен вне закона, – непрерывное бегство, и днем и ночью. И хотя я не чувствовал себя по-настоящему свободным – это было мне заказано, – но с надеждой и опасливым возбуждением ожидал встречи с новой страной, где я буду жить с новым паспортом, приобретая новые тревожные складки под серыми глазами на своем молодом лице. Я стоял на пешеходной дорожке под опрокинутой синей чашей пропеченного бомбейского неба, и сердце мое было так же чисто и полно радужных надежд, как раннее утро на овеваемом муссонами Малабарском берегу.
– Сэр! Сэр! – послышался голос позади меня.
Кто-то схватил меня за руку. Я остановился. Все мои боевые мускулы напряглись, но я подавил страх. Только не бежать. Только не поддаваться панике. Я обернулся.
Передо мной стоял маленький человечек в унылой коричневой униформе, держа в руках мою гитару. Он был не просто маленьким, а крошечным, настоящим карликом с испуганно-невинным выражением лица, как у слабоумного.
– Ваша музыка, сэр. Вы забыли свою музыку, да?
Очевидно, я оставил ее у «карусели», где получал свой багаж. Но откуда этот человечек узнал, что гитара моя? Когда я удивленно и с облегчением улыбнулся, он ухмыльнулся мне в ответ с такой полнейшей непосредственностью, какой мы обычно избегаем, боясь показаться простоватыми. Он отдал мне гитару, и я заметил, что между пальцами у него перепонки, как у водоплавающей птицы. Я вытащил из кармана несколько банкнот и протянул ему, но он неуклюже попятился от меня на своих толстых ногах.
– Деньги – нет. Мы здесь должны помогать. Добро пожаловать к Индии, – произнес он и засеменил прочь, затерявшись в человеческом лесу.
Я купил билет до центра у кондуктора Ветеранской автобусной линии. За рулем сидел отставной военнослужащий. Увидев, с какой легкостью взлетают на крышу мой вещмешок и саквояж, точно приземлившись на свободное место среди прочего багажа, я решил оставить гитару при себе. Я пристроился на задней скамейке рядом с двумя длинноволосыми туристами. Автобус быстро наполнялся местными жителями и приезжими, по большей части молодыми и стремившимися тратить как можно меньше.
Когда салон был почти полон, водитель обернулся, обвел нас угрожающим взглядом, пустил изо рта через открытую дверь струю ярко-красного бетельного сока и объявил, что мы немедленно отправляемся:
– Тхик хайн, чало![1 — Хорошо, едем! (хинди)]
Двигатель взревел, шестерни со скрежетом сцепились, и мы с устрашающей скоростью рванулись вперед сквозь толпу носильщиков и пешеходов, которые шарахались в стороны, выпархивая из-под колес автобуса в последнюю секунду. Наш кондуктор, ехавший на подножке, поливал их при этом отборной бранью.
Поначалу в город вела широкая современная магистраль, обсаженная деревьями и кустами. Это напоминало чистенький благоустроенный пейзаж вокруг международного аэропорта в моем родном Мельбурне. Убаюканный и ублаготворенный этим сходством, я был ошеломлен, когда дорога внезапно сузилась до предела, – можно было подумать, что этот контраст задуман специально для того, чтобы поразить приезжего. Несколько полос движения слились в одну, деревья исчезли, и вместо них по обеим сторонам дороги появились трущобы, при виде которых у меня кошки заскребли на сердце. Целые акры трущоб уходили вдаль волнистыми черно-коричневыми дюнами, исчезая на горизонте в жарком мареве. Жалкие лачуги были сооружены из бамбуковых шестов, тростниковых циновок, обрезков пластмассы, бумаги, тряпья. Они прижимались вплотную друг к другу; кое-где между ними извивались узкие проходы. На всем раскинувшемся перед нами пространстве не было видно ни одного строения, которое превышало бы рост человека.
Казалось невероятным, что современный аэропорт с толпой обеспеченных целеустремленных туристов находится всего в нескольких километрах от этой юдоли разбитых и развеянных по ветру чаяний. Первое, что пришло мне в голову, – где-то произошла страшная катастрофа и это лагерь, в котором нашли временное пристанище уцелевшие. Месяцы спустя я понял, что жителей трущоб и вправду можно считать уцелевшими, – их согнали сюда из их деревень нищета, голод, массовые убийства. Каждую неделю в город прибывали пять тысяч беженцев, и так неделя за неделей, год за годом.
По мере того как счетчик водителя накручивал километры, сотни обитателей трущоб становились тысячами и десятками тысяч, и меня буквально крючило внутри. Я стыдился своего здоровья, денег в карманах. Если вы в принципе способны чувствовать такие вещи, то первое неожиданное столкновение с людьми, отверженными миром, будет для вас мучительным обвинением. Я грабил банки и промышлял наркотиками, тюремщики избивали меня так, что кости трещали. В меня не раз всаживали нож, и я всаживал нож в ответ. Я убежал из тюрьмы с крутыми порядками и парнями, перебравшись через крутую стену в самом видном месте. Тем не менее это распахнувшееся до самого горизонта море людского страдания резануло меня по глазам. Я словно напоролся на нож.
Тлеющее внутри меня чувство стыда и вины все больше разгоралось, заставляя сжимать кулаки из-за этой несправедливости. «Что это за правительство, – думал я, – что это за система, которая допускает такое?»
А трущобы все тянулись и тянулись; изредка бросались в глаза составлявшие разительный контраст с ними процветающие предприятия и офисы, а также обшарпанные многоквартирные дома, заселенные теми, кто был чуть побогаче. Но за ними опять простирались трущобы, и их неизбывность вытравила из меня всякую почтительность перед чужой страной. Я с каким-то трепетом стал наблюдать за людьми, жившими в этих бесчисленных развалюхах. Вот женщина наклонилась, чтобы зачесать вперед черную атласную прядь волос. Еще одна купала детей в медном тазу. Мужчина вел трех коз с красными ленточками, привязанными к ошейникам. Другой брился перед растрескавшимся зеркальцем. Повсюду играли дети. Люди тащили ведра с водой, ремонтировали одну из хижин. И все, на кого бы я ни посмотрел, улыбались и смеялись.
Автобус остановился, застряв в пробке, и совсем рядом с моим окном из хижины вышел мужчина. Это был европеец, такой же бледнокожий, как и туристы в нашем автобусе, только вся его одежда состояла из обернутого вокруг торса куска ткани, разрисованного розочками. Мужчина потянулся, зевнул и безотчетно почесал свой голый живот. От него веяло прямо-таки коровьей безмятежностью. Я позавидовал его умиротворенности, как и улыбкам, которыми его приветствовала группа людей, направлявшихся к дороге.
Автобус рывком тронулся с места, и мужчина остался позади. Но встреча с ним кардинально изменила мое восприятие окружающего. Он был таким же иностранцем, как и я, и это позволило мне представить самого себя в этом мире. То, что казалось мне абсолютно чуждым и странным, вдруг стало реальным, вполне возможным и даже захватывающим. Теперь я видел, как трудолюбивы эти люди, сколько старания и энергии во всем, что они делают. Случайный взгляд в ту или иную хижину демонстрировал поразительную чистоту этих нищенских обиталищ: полы без единого пятнышка, блестящую металлическую посуду, составленную аккуратными горками. И наконец я обратил внимание на то, что должен был заметить с самого начала, – эти люди были удивительно красивы: женщины, обмотанные ярко-алыми, голубыми и золотыми тканями, ходившие босиком среди этой тесноты и убожества с терпеливой, почти неземной грацией, белозубые мужчины с миндалевидными глазами и веселые дружелюбные дети с худенькими руками и ногами. Старшие играли вместе с малышами, у многих на коленях сидели их маленькие братья и сестры. И впервые за последние полчаса я улыбнулся.
– Да, жалкое зрелище, – произнес сидевший рядом со мной молодой человек, глядя в окно.
Это был канадец, как можно было понять по пятну в форме кленового листа на его куртке, – высокий, плотного сложения, с бледно-голубыми глазами и каштановыми волосами до плеч. Его товарищ был его уменьшенной копией – они даже одеты были одинаково: застиранные почти до белизны джинсы, мягкие куртки из набивного ситца и сандалии на ногах.
– Что вы говорите?
– Вы здесь впервые? – спросил он, вместо ответа, и, когда я кивнул, сказал: – Я так и думал. Дальше будет немного лучше – меньше трущоб и всего этого. Но действительно хороших мест вы в Бомбее не найдете – самый захудалый город во всей Индии, можете мне поверить.
– Это верно, – заметил канадец поменьше.
– Правда, нам по пути попадется парочка красивых храмов, вполне приличные английские дома с каменными львами, медные уличные фонари и тому подобное. Но это не Индия. Настоящая Индия возле Гималаев, в Манали, или в религиозном центре Варанаси, или на Южном побережье, в Керале. Настоящая Индия не в городах.
– И куда вы направляетесь?
– Мы остановимся в ашраме у раджнишитов[2 — Ашрам – исходно приют отшельника; часто является также центром религиозного образования; раджнишизм – религиозное учение, основанное в 1964 г. Бхагваном Шри Раджнишем (Ошо) и объединяющее постулаты христианства, древнеиндийских и некоторых других религий.], в Пуне. Это лучший ашрам во всей стране.
Две пары прозрачных бледно-голубых глаз уставились на меня критически, чуть ли не с обвинением, как свойственно людям, убежденным, что они нашли единственно верный путь.
– А вы задержитесь здесь?
– В Бомбее, вы имеете в виду?
– Да, вы собираетесь остановиться где-нибудь в городе или сегодня же поедете дальше?
– Не знаю пока, – ответил я и отвернулся к окну.
Это было правдой: я не знал, хочу ли я провести в Бомбее какое-то время или сразу двинусь… куда-нибудь. В тот момент мне было все равно, я представлял собой особь, которую Карла назвала как-то самым опасным и самым интересным животным в мире: крутого парня, не имеющего перед собой никакой цели.
– У меня нет определенных планов, – сказал я. – Может быть, побуду в Бомбее недолго.
– А мы переночуем здесь, а утром отправимся в Пуну поездом. Если хотите, мы можем снять номер на троих. Это гораздо дешевле.
Я посмотрел в его бесхитростные голубые глаза. «Пожалуй, поначалу лучше поселиться вместе с ними, – подумал я. – Их подлинные документы и простодушные улыбки послужат прикрытием для моего фальшивого паспорта. Возможно, так будет безопаснее».
– И так будет безопаснее, – добавил он.
– Это точно, – согласился его товарищ.
– Безопаснее? – спросил я небрежным тоном, внутренне насторожившись.
Автобус снизил скорость, пробираясь по узкому ущелью между трех- и четырехэтажными домами. Взад-вперед сновали автомобили, автобусы, грузовики, велосипеды, буйволовые упряжки, мотороллеры и пешеходы, совершая свой целенаправленный танец со сверхъестественным проворством. Сквозь открытые окна нашего потрепанного автобуса доносились запахи пряностей, благовоний, выхлопных газов и навоза – смесь могучая, но терпимая. Громкие голоса старались перекричать льющуюся со всех сторон экзотическую музыку. Тут и там гигантские афиши рекламировали индийские кинофильмы. Их ненатурально яркие краски струились непрерывным потоком мимо наших окон.
– Намного безопаснее. Бомбей – ловушка для простаков. Здешние уличные мальчишки обдерут вас почище любого жульнического казино.
– Это мегаполис, приятель, – пустился в объяснения низенький канадец. – А они все одинаковы. То же самое в Нью-Йорке, Рио или Париже. Всюду та же грязь и то же безумие. Да вы и сами, наверное, представляете, что такое мегаполис. Когда вы выберетесь из этого города, вы полюбите Индию. Это великая страна, но города все засраны, приходится признать.
– А чертовы отели тоже участвуют в этой обираловке, – добавил высокий. – Вас могут обчистить, пока вы сидите в своем номере и курите травку. Они в сговоре с полицией – и те и другие только и думают, как бы избавить вас от наличности. Поэтому самое надежное – держаться группой, поверьте моему опыту.
– И постарайтесь при первой возможности убраться из города, – сказал низкий. – Мать честная! Смотрите!
Автобус вывернул на широкий бульвар, окаймленный с одной стороны грядой огромных валунов, спускавшихся прямо к бирюзовым океанским волнам. Среди камней приютились грубые закопченные хижины, похожие на почерневшие обломки какого-то старинного корабля, потерпевшего здесь крушение. И эти хижины горели.
– Черт побери! Этот парень поджаривается заживо! – закричал высокий канадец, указывая на мужчину, бежавшего к морю.
Его одежда и волосы были объяты пламенем. Мужчина поскользнулся и тяжело упал среди камней. Женщина с ребенком подбежала к нему и стала сбивать пламя своей одеждой и голыми руками. Их соседи старались погасить пожар в собственных домах или просто стояли и смотрели, как догорают принадлежавшие им хлипкие строения.
– Вы видели? Парню не выжить, это точно.
– Да, черт возьми, ты прав! – выдохнул низенький.
Наш водитель замедлил ход вместе с другими автомобилями, чтобы поглазеть на пожар, но затем вновь нажал на газ и продолжил путь. Ни одна из многочисленных проезжавших машин не остановилась. Обернувшись, я смотрел через заднее стекло автобуса, пока обуглившиеся бугорки хижин не превратились в черные точки, а коричневый дым пожарища не стал затихающим шепотом происшедшего несчастья.
В конце длинного бульвара, тянувшегося вдоль берега моря, мы сделали левый поворот и выехали на широкую улицу, застроенную современными зданиями. У входа в фешенебельные отели стояли под разноцветными тентами швейцары в ливреях. Шикарные рестораны утопали в зелени садов. Сверкали на солнце стеклом и медью фасады авиакомпаний и прочих учреждений. Торговые лотки прятались от палящих лучей под большими зонтами. Шагавшие по улице мужчины носили деловые костюмы западного образца и прочную обувь, женщины были закутаны в дорогие шелка. У всех был озабоченный и полный достоинства вид; в офисы они заходили с серьезными лицами.
Повсюду бросался в глаза контраст между тем, что было мне хорошо знакомо, и непривычным. Повозка, запряженная буйволами, остановилась у светофора рядом с модным спортивным автомобилем. Мужчина присел, чтобы облегчиться, за сомнительным укрытием в виде тарелки спутниковой антенны. Электропогрузчик разгружал товар с древней колымаги на деревянных колесах. Далекое прошлое настойчиво пробивалось сквозь барьеры времени в собственное будущее. Мне это нравилось.
– Мы подъезжаем, – объявил мой сосед. – Центр города совсем рядом. Правда, это не совсем то, что мы обычно понимаем под городским центром, – просто район, где сосредоточены дешевые туристские гостиницы. Он называется Колаба. Ну вот мы и прибыли.
Молодые люди достали из карманов свои паспорта и дорожные чеки и засунули их прямо в штаны. Низенький даже снял часы и запихал их вместе с паспортом, деньгами и прочими ценностями в трусы, став похожим на сумчатое животное. Поймав мой взгляд, он улыбнулся:
– Осторожность не помешает.
Я встал и пробрался к передним дверям. Когда мы остановились, я сошел первым, но увяз в толпе людей, окруживших автобус. Это были посыльные из гостиниц, торговцы наркотиками и прочие уличные зазывалы. Они вопили на ломаном английском, предлагая дешевое жилье и другие услуги. Впереди всех у дверей автобуса был маленький человечек с большой, почти идеально круглой головой, одетый в хлопчатобумажную рубашку и парусиновые брюки. Он заорал на окружающих, чтобы утихомирить их, и обратился ко мне с самой широкой и лучезарной улыбкой, какую мне когда-либо приходилось видеть:
– Доброе утро, знаменитые сэры! Добро пожаловать в Бомбей! Вы нуждаетесь в отличных дешевых отелях, не прав ли я?
Он смотрел мне в глаза, все так же сверкая своей широкой улыбкой. И было в этой улыбке какое-то бьющее через край озорство, более искреннее и восторженное, чем обыкновенная радость, которое проникло мне прямо в сердце. Мы всего лишь секунду смотрели друг на друга, но этого мне было достаточно, чтобы решить: я могу довериться этому маленькому человеку с широкой улыбкой. Это оказалось одним из самых удачных решений в моей жизни, хотя тогда я, конечно, этого еще не знал.
Пассажиры, покидавшие автобус, отбивались от облепившего их роя торговцев и зазывал. Два канадца беспрепятственно проложили себе путь через толпу, одаривая одинаковой широкой улыбкой обе воюющие стороны. Глядя, как ловко они лавируют в гуще людей, я впервые обратил внимание на то, какие это здоровые, энергичные и симпатичные парни, и подумал, что стоит принять их предложение снять общий номер. В их компании я мог быть уверен, что ни у кого и мысли не возникнет о каких-либо побегах из тюрьмы и фальшивых документах.
Человечек схватил меня за рукав и выволок из бушевавшей толпы за автобус. Кондуктор с обезьяньей ловкостью забрался на крышу и скинул мне на руки мой вещмешок и саквояж. Прочие тюки и чемоданы посыпались на мостовую с устрашающим грохотом. Пассажиры кинулись спасать свое имущество, а мой проводник опять отвел меня в сторону на спокойное место.
– Меня зовут Прабакер, – произнес он по-английски с мелодичным акцентом. – А каково твое доброе имя?
– Мое доброе имя Линдсей, – соврал я в соответствии со своим паспортом.
– Я бомбейский гид. Очень отличный бомбейский гид, высший класс. Весь Бомбей я знаю очень хорошо. Ты хочешь увидеть все-все-все. Я точно знаю, где ты найдешь этого больше всего. Я могу показать тебе даже больше, чем все.
Два молодых канадца подошли к нам, преследуемые все той же назойливой бандой оборванных приставал. Прабакер прикрикнул на своих разошедшихся коллег, и те отступили на несколько шагов, пожирая глазами наши пожитки.
– Прежде всего я хочу увидеть приличный и дешевый гостиничный номер, – сказал я.
– Разумеется, сэр! – просиял Прабакер. – Я могу отвести тебя в дешевую гостиницу, и в очень дешевую гостиницу, и в слишком очень дешевую гостиницу, и даже в такую дешевую гостиницу, что никто с нормальным умом никогда там не останавливается.
– Хорошо. Веди нас, Прабакер. Посмотрим, что ты можешь нам предложить.
– Одну минуту, – вмешался высокий канадец. – Вы собираетесь заплатить этому типу? Я хочу сказать, что и без него знаю, где остановиться. Не обижайся, друг, – я уверен, ты прекрасный гид и все такое, но ты нам не нужен.
Я посмотрел на Прабакера. Его большие темно-карие глаза изучали мое лицо с веселым дружелюбием. Я никогда не встречал менее агрессивного человека, чем Прабакер Харре: он был не способен гневно повысить голос или поднять на кого-нибудь руку – я это почувствовал с самых первых минут нашего знакомства.
– А ты что скажешь, Прабакер? – спросил я его с шутливой серьезностью. – Нужен ты мне?
– О да! – вскричал он. – Ты так нуждаешься во мне, что я почти плачу от сочувствия к твоей ситуации! Одному Богу известно, какие ужасные вещи будут с тобой происходить в Бомбее без моего сопровождения твоего тела.
– Я заплачу ему, – сказал я канадцам; пожав плечами, они взяли свои вещи. – Ладно. Пошли, Прабакер.
Я хотел поднять свой вещмешок, но Прабакер тут же ухватился за него.
– Твой багаж носить – это я, – вежливо, но настойчиво произнес он.
– Это ни к чему. Я и сам прекрасно справлюсь.
Широкая улыбка скривилась в умоляющую гримасу.
– Пожалуйста, сэр. Это моя работа. Это мой долг. Я сильный на спине. Без проблем. Ты увидишь.
Все мое нутро восставало против этого.
– Нет-нет…
– Пожалуйста, мистер Линдсей. Это моя честь. Смотри на людей.
Прабакер простер руку, указывая на своих товарищей, которым удалось заполучить клиентов среди пассажиров автобуса. Все они, схватив сумку, чемодан или рюкзак, деловито и решительно уводили свою добычу в нужном им направлении.
– М-да… Ну ладно, – пробормотал я, подчиняясь.
Это была первая из моих капитуляций перед ним, которые в дальнейшем стали характерной чертой наших отношений. Его круглое лицо опять расплылось в улыбке; я помог ему взвалить вещмешок на спину. Ноша была нелегкая. Прабакер пригнулся и, вытянув шею, устремился вперед, тяжело ступая. Я большими шагами быстро догнал его и посмотрел на его напряженное лицо. Я чувствовал себя белым бваной[3 — Бвана – господин (хинди).], использующим туземца как вьючное животное, и это было мерзкое ощущение.
Но маленький индиец смеялся и болтал о Бомбее и достопримечательностях, которые следует посмотреть, указывая время от времени на те, что попадались нам по пути, и приветствуя улыбкой встречных знакомых. К канадцам он обращался с почтительным дружелюбием. И он действительно был силен – гораздо сильнее, чем казалось с первого взгляда. За пятнадцать минут ходьбы до гостиницы он ни разу не остановился и не оступился.
Поднявшись на четыре пролета по крутым замшелым ступеням темной лестницы с задней стороны большого здания, чей фасад был обращен к морю, мы оказались в «Индийской гостинице». На каждом из этажей, которые мы проходили, имелись вывески: «Отель Апсара», «Гостиница „Звезда Азии“», «Приморский отель». Как можно было понять, в одном здании разместилось четыре гостиницы, каждая из которых обладала собственным персоналом, фирменным набором услуг и особым стилем.
Мы вчетвером ввалились со своим багажом в маленький холл. За стальной конторкой возле коридора, ведущего к номерам, восседал рослый мускулистый индиец в ослепительно-белой рубашке и черном галстуке.
– Добро пожаловать, – приветствовал он нас, осторожно улыбнувшись и продемонстрировав две ямочки на щеках. – Добро пожаловать, молодые джентльмены.
– Ну и дыра, – пробормотал высокий канадец, оглядывая фанерные перегородки с облупившейся краской.
– Это мистер Ананд, – поспешил представить портье Прабакер. – Лучший менеджер лучшего отеля в Колабе.
– Заткнись, Прабакер, – проворчал мистер Ананд.
Улыбка Прабакера стала еще шире.
– Видишь, какой замечательный менеджер этот мистер Ананд? – прошептал он мне. Затем он обратил свою улыбку к замечательному менеджеру. – Я привел вам три отборных туриста, мистер Ананд. Самые лучшие постояльцы для самого лучшего отеля, вот как!
– Заткнись, я сказал! – рявкнул Ананд.
– Сколько? – спросил низенький канадец.
– Простите? – пробормотал Ананд, продолжая испепелять взглядом Прабакера.
– Один номер, три человека, на одну ночь. Сколько это будет стоить?
– Сто двадцать рупий.
– Что?! – взорвался канадец. – Вы шутите?
– Это слишком много, – поддержал его товарищ. – Пошли отсюда.
– Без проблем, – бросил Ананд. – Можете идти куда-нибудь еще.
Они стали собирать свои пожитки, но Прабакер остановил их с отчаянным криком:
– Нет-нет! Это самый прекраснейший из всех отелей. Пожалуйста, посмотрите в номер! Пожалуйста, мистер Линдсей, только посмотрите в этот восхитительный номер!
На миг воцарилась тишина. Молодые канадцы замешкались на пороге. Ананда вдруг необыкновенно заинтересовало что-то в книге, куда он записывал постояльцев. Прабакер схватил меня за рукав. Я уже успел проникнуться симпатией к моему гиду, и мне импонировала манера, с которой держался Ананд. Он не заискивал перед нами и не уговаривал остаться, предоставив нам самим решать, соглашаться на его условия или нет. Он поднял глаза от журнала и встретился со мной взглядом. Это был прямой и честный взгляд человека, уверенного в себе и с уважением относящегося к другому. Ананд нравился мне все больше.
– Ладно, давайте посмотрим в этот номер, – сказал я.
– Да-да! – засмеялся Прабакер.
– Ну давайте, – согласились канадцы, вздыхая и улыбаясь.
– В конце коридора, – улыбнулся Ананд в ответ, снимая ключ от номера с крючка и кладя его передо мной на конторку вместе с прикрепленным к нему тяжелым латунным номерком. – Последняя комната справа, дружище.
Это была большая комната с тремя кроватями, накрытыми покрывалами, одним окном с видом на море и еще несколькими, выходившими на шумную улицу. При взгляде на крашеные стены, каждая из которых резала глаз своим оттенком зеленого, начинала болеть голова. По углам краска отстала от стен и свисала, закручиваясь спиралью. Потолок был в паутине трещин. Бетонный пол, с уклоном в сторону уличных окон, был неровным и волнистым, на нем выступали бугорки непонятного происхождения. Меблировка состояла, помимо кроватей, из трех маленьких пристенных столиков клееной фанеры и обшарпанного туалетного столика с потрескавшимся зеркалом. Наши предшественники оставили на память о себе оплывшую свечу в бутылке из-под ирландского крем-ликера «Бейлис», вырезанную из календаря и прикрепленную скотчем к стене репродукцию, изображавшую неаполитанскую уличную сценку, и два жалких полуспущенных воздушных шарика, привязанные к решетке вентиляционного отверстия. Интерьер побуждал постояльцев увековечивать на стенах, подобно заключенным тюремной камеры, свои имена и пожелания.
– Я беру номер, – решился я.
– Да! – воскликнул Прабакер и тут же кинулся обратно в холл.
Мои попутчики посмотрели друг на друга и рассмеялись.
– С этим чудаком бесполезно спорить. Он чокнутый, – заявил высокий.
– Да уж, – хмыкнул низкий и, наклонившись, понюхал простыни на одной из кроватей и осторожно сел на нее.
Прабакер вернулся вместе с Анандом, державшим в руках толстую книгу записи постояльцев. Пока мы по очереди вносили в нее сведения о себе, Ананд проверил наши паспорта. Я уплатил за неделю вперед. Ананд вернул паспорта канадцам, а моим стал задумчиво похлопывать себя по щеке.
– Новая Зеландия? – проговорил он.
– Да, и что? – Я нахмурился, гадая, что он мог углядеть или почувствовать.
После того как я по собственному почину сократил двадцатилетний срок своего заключения, Австралия объявила меня в розыск и мое имя числилось в Интерполе среди беглецов. «Что ему известно? – подумал я. – К чему он клонит?»
– Хм… Ну, ладно. Новая Зеландия так Новая Зеландия. Возможно, вы захотите что-нибудь покурить, выпить пива или виски, разменять деньги, нанять девушек, провести время в хорошей компании. Если вам понадобится что-нибудь, скажете мне, нa?[4 — 1) Нет; 2) да? не так ли? (вопросительный «хвостик» в конце предложения) (хинди).]
Он вернул мне паспорт и, бросив грозный взгляд на Прабакера, покинул комнату. Стоявший у дверей гид отшатнулся от него, съежившись и одновременно счастливо улыбаясь.
– Большой человек, замечательный менеджер, – выпалил он после ухода Ананда.
– Прабакер, у вас здесь часто останавливаются новозеландцы?
– Не очень часто, мистер Линдсей. Но они все очень замечательные личности. Смеются, курят, пьют, ночью занимаются сексом с женщинами, а потом опять смеются, курят и пьют.
– Угу. Ты, случайно, не знаешь, где я мог бы достать немного гашиша, Прабакер?
– Я не знаю?! Я могу достать одну толу[5 — Тола – индийская единица веса, равная 13,7 г.], один килограмм, десять килограммов, и я даже знаю, где целый склад гашиша.
– Целый склад мне не нужен. Я просто хочу покурить.
– Так случается, что у меня в кармане есть одна тола, десять граммов лучшего афганского чараса[6 — Чарас – смесь гашиша и табака.]. Ты хочешь купить?
– За сколько?
– Двести рупий, – предложил он с надеждой в голосе.
Я подозревал, что он завысил цену по крайней мере вдвое, но даже при этом двести рупий – около двенадцати американских долларов по тогдашнему курсу – составляли одну десятую того, что запрашивали в Австралии. Я дал ему папиросную бумагу и пачку табака:
– Хорошо. Сверни цигарку, я попробую. Если мне понравится гашиш, я куплю.
Мои сокамерники растянулись на двух параллельных кроватях и, когда Прабакер вытащил из кармана порцию гашиша, посмотрели друг на друга с одинаковым выражением, приподняв брови и поджав губы. Они завороженно и боязливо наблюдали за тем, как маленький индиец, встав на колени у туалетного столика, сворачивает самокрутку на его пыльной поверхности.
– Вы уверены, что поступаете разумно, приятель?
– Да, может, они подстроили это нарочно, чтобы обвинить нас в употреблении наркотиков, или что-нибудь вроде этого?
– Я думаю, Прабакеру можно доверять. Вряд ли это ловушка, – ответил я, разворачивая свое походное одеяло и расстилая его на постели возле уличных окон.
На подоконнике была устроена полочка, и я стал выкладывать на нее свои безделушки, сувениры и талисманы – черный камешек, который мне вручил некий малыш в Новой Зеландии, окаменелую раковину улитки, найденную одним из моих друзей, и браслет из когтей ястреба, подаренный другим. Я скрывался от правосудия. У меня не было своего дома и своей страны, и я возил с собой вещи, которые мне дали друзья: огромную аптечку, купленную ими в складчину, рисунки, стихи, раковины, перья. Даже одежду и обувь приобрели для меня они. Здесь не было несущественных мелочей; подоконник стал теперь моим домом, а все эти сувениры – моей родиной.
– Если вы боитесь, парни, то можете выйти погулять или подождать на улице, пока я курю. А потом я позову вас. Просто я обещал своим друзьям, что, попав в Индию, первым делом закурю гашиш и буду при этом думать о них, так что я выполняю обещание. К тому же мне показалось, что портье смотрит на это сквозь пальцы. У нас могут быть неприятности из-за курения в гостинице, Прабакер?
– Курение, выпивка, музыка, танцы, секс в гостинице – без проблем, – заверил нас Прабакер, подняв на миг голову от своего занятия и расплывшись в улыбке. – Все разрешается без проблем. Кроме драк. Драка – это плохие манеры в «Индийской гостинице».
– Вот видите? Без проблем.
– И еще умирание, – добавил Прабакер, задумчиво покрутив круглой головой. – Мистер Ананд не любит, когда здесь умирают.
– Что-что? Что он несет?
– Он что, серьезно? Еще не хватало, черт побери, чтобы кто-нибудь умирал тут! Господи Исусе!
– Умирание для вас тоже не проблема, баба[7 — Баба – уважительное обращение.], – успокоил Прабакер пришедших в смятение канадцев, предлагая им аккуратно свернутую сигарету; высокий канадец взял ее и слегка затянулся. – Не очень много людей умирает здесь, в «Индийской гостинице», и в основном только наркоманы с костлявыми лицами. Для вас с вашими такими прекрасными большими упитанными телами нет проблем.
Он с обезоруживающей улыбкой вручил мне самокрутку. Затянувшись, я отдал сигарету ему, и он с нескрываемым удовольствием затянулся тоже, а затем передал ее канадцам:
– Хороший чарас, да?
– Да, он действительно хорош, – ответил высокий канадец, улыбаясь от души.
С тех пор эта широкая искренняя улыбка ассоциируется у меня с Канадой и ее жителями.
– Беру, – сказал я.
Прабакер передал мне десятиграммовую плитку, я разломил ее на две части и одну из них кинул ближайшему канадцу:
– Держите. Будет чем развлечься завтра в поезде по дороге в Пуну.
– Благодарю, – отозвался он. – Слушай, а ты молоток. Немного сдвинутый, но молоток.
Я вытащил из саквояжа бутылку виски и откупорил ее. Это также было исполнением обещания, данного одной из новозеландских подруг. Она просила меня выпить в память о ней, если мне удастся благополучно добраться до Индии с фальшивым паспортом. Эти маленькие ритуалы – сигарета, виски – были важны для меня. Я был уверен, что навсегда потерял и свою семью, и друзей; что-то подсказывало мне, что я никогда их больше не увижу. Я был один в целом свете, без всякой надежды на возвращение домой, и вся моя прошлая жизнь была заключена в воспоминаниях, талисманах и прочих залогах любви.
Я уже хотел приложиться к бутылке, но, передумав, предложил ее сначала Прабакеру.
– Грандиозное спасибо, мистер Линдсей! – просиял он, округлив глаза от удовольствия. Запрокинув голову, он вылил порцию виски себе в рот, не касаясь губами горлышка. – Это самый наихороший виски, «Джонни Уокер», высший класс. Да…
– Глотни еще, если хочешь.
– Только маленький кусочек, такое спасибо. – Он плеснул еще виски прямо в горло, заметно расширившееся при этом. Сделав паузу, он облизнулся, затем поднял бутылку в третий раз. – Прошу прощения, да-а, большого прощения. Это такой хороший виски, что он производит у меня плохие манеры.
– Послушай, если виски тебе так нравится, можешь оставить бутылку себе. У меня есть еще одна. Я купил их в самолете без пошлины.
– О, благодарю… – ответил Прабакер, но при этом почему-то несколько скис.
– В чем дело? Ты не хочешь виски?
– Хочу-хочу, мистер Линдсей, очень серьезно хочу. Но если б я знал, что это мой виски, а не твой, я не пил бы так щедро.
Канадцы расхохотались.
– Знаешь что, Прабакер, я отдам тебе вторую бутылку, а открытую мы сейчас разопьем. Идет? И вот двести рупий за курево.
Улыбка опять расцвела, и Прабакер, обменяв початую бутылку на целую, нежно прижал ее к груди.
– Но, мистер Линдсей, ты делаешь ошибку. Я говорю, что этот замечательный чарас стоит одну сотню рупий, не две.
– Угу.
– Да, одну сотню рупий только, – произнес он, с решительным видом возвращая мне одну из купюр.
– Хорошо. Знаешь, Прабакер, я ничего не ел в самолете, и неплохо бы теперь пообедать. Ты можешь показать мне какой-нибудь приличный ресторан?
– С несомненной уверенностью, мистер Линдсей, сэр! Я знаю такие отличные рестораны с такой замечательной пищей, что твоему желудку будет прямо плохо от счастья.
– Ты меня убедил, – сказал я, поднимаясь и засовывая в карман паспорт и деньги. – Вы пойдете, парни?
– Что, на улицу? Вы шутите.
– Может, позже. Как-нибудь в другой раз. Но мы будем ждать вашего возвращения и посторожим ваши вещи.
– Хорошо. Как хотите. Я вернусь через пару часов.
Прабакер из вежливости вышел первым, кланяясь и виляя хвостом. Я направился за ним, но прежде, чем я успел закрыть дверь, высокий канадец бросил мне:
– Послушайте… вы поосторожнее там, на улице. Вы ведь здесь ничего не знаете. Никому нельзя доверять. Это не деревня. Индийцы в городе – это… ну, в общем, поберегитесь, ладно?
Ананд спрятал мой паспорт, дорожные чеки и основную часть денег в сейф, выдав мне за все расписку, и я вышел на улицу. Предупреждения канадцев звучали у меня в ушах, как крики чаек над косяками рыбы, мечущими икру на мелководье.
Прабакер привел нас в гостиницу по широкому и довольно пустынному проспекту, который начинался у высокой каменной арки, носившей название Ворота в Индию, и описывал дугу по берегу залива. Однако улица с другой стороны здания была запружена транспортом и народом. Людской гомон, сливаясь с автомобильными гудками, дождем обрушивался на деревянные и металлические крыши окружающих домов.
Сотни людей бродили взад-вперед или стояли группами. По всей длине улицы вплотную друг к другу теснились магазины, рестораны и гостиницы. На тротуаре перед магазинами и ресторанами были устроены небольшие прилавки, за которыми хозяйничали два или три продавца, сидевшие на складных стульях. Среди них были африканцы, арабы, европейцы, индийцы. Идя по тротуару, вы все время слышали новый язык и новую музыку, каждый ресторан подмешивал в кипящую воздушную смесь свои запахи.
В сплошном потоке машин виднелись повозки, запряженные буйволами, а также ручные тележки, развозившие арбузы и мешки с рисом, прохладительные напитки и вешалки с одеждой, сигареты и глыбы льда. В руках людей мелькали деньги – это был черный рынок валюты, объяснил мне Прабакер. Толстые пачки банкнот передавались и пересчитывались совершенно открыто. На каждом шагу попадались нищие, фокусники и акробаты, заклинатели змей, музыканты и астрологи, хироманты, сутенеры и торговцы наркотиками. Улица была захламлена до предела. Из верхних окон домов то и дело без предупреждения выбрасывали всякую дрянь, на тротуарах и даже на мостовой громоздились кучи отбросов, в которых пировали жирные бесстрашные крысы.
Но что в первую очередь бросалось в глаза, так это невероятное количество покалеченных и больных нищих, демонстрировавших всевозможные болезни, увечья и прочие напасти. Они встречали вас в дверях ресторанов и магазинов, вылавливали на улице, донимая профессионально отработанными жалобными причитаниями. Как и трущобы, впервые увиденные из окна автобуса, это неприкрытое страдание вызывало на моем здоровом, ничем не обезображенном лице краску стыда. Но, пробираясь вслед за Прабакером сквозь толпу, я обратил внимание на другую, не столь уродливую сторону их жизни. В дверях одного из домов группа нищих играла в карты; какой-то слепой уплетал в компании друзей рыбу с рисом; детишки, громко смеясь, по очереди катались вместе с безногим бедняком на его тележке.
По дороге Прабакер искоса бросал на меня взгляды.
– Как тебе нравится наш Бомбей?
– Ужасно нравится, – ответил я, нисколько не покривив душой.
На мой взгляд, город был прекрасен. Он был дик и будоражил воображение. Романтические постройки эпохи британского владычества чередовались с зеркальными башнями современных бизнес-центров. Среди беспорядочного нагромождения убогих жилищ расстилался многокрасочный ковер свежих овощей и шелков. Из каждого магазина и из каждого проезжавшего такси доносилась музыка. Краски слепили глаза, восхитительные ароматы кружили голову. А в глазах людей на этих переполненных улицах улыбки мелькали чаще, чем в каком бы то ни было другом месте, где мне доводилось бывать.
Но главное – Бомбей был свободным городом, пьяняще свободным. Куда ни взгляни, во всем чувствовался непринужденный, ничем не скованный дух, и я невольно откликался на него всем сердцем. Сознавая, что эти мужчины и женщины свободны, я уже не так мучился от неловкости и стыда, которые испытывал при виде трущоб и нищих. Никто не прогонял попрошаек с улицы, никто не выдворял жителей трущоб из их хижин. Какой бы тяжелой ни была их жизнь, они проводили время на тех же проспектах и в тех же садах, что и сильные мира сего. Все они были свободны. Это был свободный город. Я влюбился в него.
Конечно, я чувствовал себя несколько растерянно среди этого переплетения разнонаправленных интересов, на карнавале нуждающихся и алчущих; бесцеремонное попрошайничество и плутовство приводили меня в замешательство. Я не понимал языков, которые слышал. Мне были незнакомы культуры, представленные разнообразными одеяниями, сари, тюрбанами. Я будто смотрел экстравагантную постановку какой-то замысловатой пьесы, не имея понятия о ее содержании. Но хотя все окружающее было непривычным и смущало, оно вместе с тем вызывало у меня непроизвольную радостную улыбку. За мою голову было назначено вознаграждение, за мной гнались, но я испытывал ощущение, что я оторвался от погони, что в данный момент я свободен. Когда ты спасаешься от преследования, каждый день для тебя – целая жизнь. Каждая минута свободы – это отдельная история со счастливым концом.
И я был рад, что со мной Прабакер. Его хорошо знали на улице, самые разные люди сердечно приветствовали его.
– Ты, должно быть, голоден, мистер Линдсей, – заметил Прабакер. – Ты счастливый человек, прошу прощения за такие слова, а счастливый человек всегда имеет хороший аппетит.
– Хм… Насчет аппетита ты прав. Но где же тот ресторан, куда мы направляемся? Если бы я знал, что он так далеко, то захватил бы с собой готовый завтрак, чтобы съесть по дороге.
– Чуть-чуть еще немножко, не очень далеко, – с живостью отозвался он.
– Ну-ну…
– О да! Я отведу тебя в лучший ресторан, с прекраснейшими блюдами Махараштры![8 — Махараштра – индийский штат, административным центром которого является Бомбей.] Ты будешь удовлетворяться без проблем. Все бомбейские гиды вроде меня едят там свою пищу. Это такой хороший ресторан, что он должен платить полиции бакшиш вдвое меньше, чем обычно. Вот какой он хороший!
– Неужели?
– О да! Но сначала позволь мне добыть для тебя индийскую сигарету. И для меня тоже. Сейчас мы должны остановиться.
Он подвел меня к уличному лотку величиной не больше складного карточного столика. На нем были разложены картонные пачки сигарет примерно дюжины сортов. Тут же на большом медном подносе теснились серебряные тарелочки с дроблеными кокосовыми орехами, пряностями и разнообразными пастами неизвестного происхождения. Рядом со столиком стояло ведро с водой, в которой плавали узкие остроконечные листья. Продавец высушивал листья, смазывал их пастой, добавлял смесь измельченных фиников, кокосовых орехов, плодов бетельной пальмы и пряностей и сворачивал это все в маленькие трубочки. Покупатели, толпившиеся возле лотка, расхватывали трубочки по мере их изготовления.
Прабакер протиснулся вплотную к торговцу, выжидая момент, чтобы сделать заказ. Я вытянул шею, наблюдая за ним поверх покупательских голов, передвинулся к краю тротуара и сделал шаг на мостовую. Тут же раздался крик:
– Берегись!
Чьи-то руки схватили меня за локоть и втащили обратно на тротуар, и в этот момент мимо меня со свистом пролетел огромный двухэтажный автобус. Я был бы уже трупом, если бы не эти руки. Я обернулся, чтобы посмотреть на моего спасителя. Это была самая прекрасная из всех женщин, каких я когда-либо видел. Стройная, с черными волосами до плеч и бледной кожей. Она не была высокой, но ее развернутые плечи, прямая спина и вся поза вызывали ощущение уверенной в себе жизненной силы. На ней были шелковые панталоны, завязанные у щиколоток, черные туфли на низком каблуке, свободная хлопчатобумажная блуза и большая шелковая шаль. Концы шали, переброшенные за спину, напоминали раздвоенную ниспадающую волнами гриву. Вся ее одежда переливалась разными оттенками зеленого.
Ироническая улыбка, игравшая в изгибе ее полных губ, выражала все, ради чего мужчина должен любить ее и чего он должен в ней бояться. В этой улыбке была гордость, а в очертаниях ее тонкого носа – спокойная уверенность. Сам не знаю почему, но я сразу почувствовал, что многие принимают ее гордость за высокомерие и путают уверенность с равнодушием. Я этой ошибки не сделал. Мои глаза отправились в свободное плавание без руля и без ветрил по океану, мерцавшему в ее невозмутимом твердом взгляде. Ее большие глаза поражали своей интенсивной зеленью. Такими зелеными бывают деревья в ярких живописных снах. Таким зеленым было бы море, если бы оно могло достичь совершенства.
Она все еще держала меня за локоть. Ее прикосновение было точно таким, каким должно быть прикосновение возлюбленной: знакомым и вместе с тем возбуждающим, как произнесенное шепотом обещание. Мной овладело почти непреодолимое желание прижать ее руку к своему сердцу. Возможно, мне и следовало так сделать. Теперь-то я знаю, что она не стала бы смеяться надо мной, ей это понравилось бы. И хотя мы были совершенно незнакомы, долгих пять секунд мы стояли, глядя друг на друга, а все параллельные миры, все параллельные жизни, которые могли бы существовать, но никогда существовать не будут, крутились вокруг нас. Наконец она произнесла:
– Вам повезло. Еще бы чуть-чуть…
– Да, – улыбнулся я.
Она медленно убрала свою руку. Это был мягкий, естественный жест, но я ощутил разрыв контакта между нами так остро, как будто меня грубо выдернули из глубокого счастливого сна. Я наклонился и посмотрел слева и справа за ее спиной.
– Что там такое?
– Я ищу крылья. Ведь вы мой ангел-спаситель.
– Боюсь, что нет, – ответила она с насмешливой улыбкой, от которой на ее щеках образовались ямочки. – Во мне слишком много от дьявола.
– Неужели так уж много? – усмехнулся я. – Интересно, сколько именно?
Возле лотка стояла группа людей. Один из них – красивый, атлетически сложенный мужчина лет двадцати пяти – окликнул ее:
– Карла, пошли, йаар![9 — Йаар (йяр) – дружище, браток (хинди); часто утрачивает это значение и употребляется в конце предложения в качестве междометия («вот», «да-а», «ну» и т. п.).]
Обернувшись, она помахала ему, затем протянула мне руку. Ее рукопожатие было крепким, но трудно было сказать, какие чувства оно выражает. Улыбка ее была столь же двусмысленной. Возможно, я понравился ей, но не исключено, что она просто хотела поскорее закончить разговор.
– Вы не ответили на мой вопрос, – сказал я, выпуская ее руку из своей.
– Сколько во мне от дьявола? – спросила она с дразнящей полуулыбкой на губах. – Это очень интимный вопрос. Пожалуй, даже самый интимный из всех, какие мне когда-либо задавали. Но знаете, если вы заглянете как-нибудь в «Леопольд», то, возможно, выясните это.
Подошли ее друзья, и она оставила меня, присоединившись к ним. Это были молодые индийцы, хорошо одетые в соответствии с европейской модой, распространенной у представителей среднего класса. Они то и дело смеялись и дружески тискали друг друга, но ни один из них не прикоснулся к Карле. Казалось, ее окружает аура, одновременно притягательная и недоступная. Я подошел чуть ближе, притворившись, что меня интересует, как продавец скручивает листья. Она что-то говорила друзьям, но языка я не понимал. Голос ее на этом языке приобрел какую-то необыкновенную глубину и звучность, от которой волоски у меня на руке затрепетали. Очевидно, это тоже должно было послужить мне предупреждением. Как говорят афганские свахи, «голос – это больше половины любви». Но тогда я не знал этого, и мое сердце кинулось без оглядки в такие дебри, куда даже свахи боятся заглядывать.
– Вот, мистер Линдсей, я взял две сигареты для нас, – сказал Прабакер, подходя ко мне и торжественно вручая одну из них. – Это Индия, страна бедняков. Здесь не надо покупать целую пачку сигарет. Одну сигарету купить достаточно. И спички не надо.
Прабакер потянулся к телеграфному столбу рядом с лотком и снял висевший на крюке дымящийся кусок пенькового жгута. Сдув с конца веревки пепел, он обнажил красную тлеющую сердцевину и прикурил от нее.
– А что это такое он заворачивает в листья, которые все жуют?
– Это называется пан[10 — Пан, или бетель, – смесь пряностей, измельченных фруктов, орехов и прочих наполнителей, завернутая в лист перечного кустарника и традиционно употребляющаяся в Индии для жевания. Очищает полость рта, освежает дыхание. Пан принято подавать гостям в знак гостеприимства.]. Самый наиболее отличный вкус, и жевание тоже. Все в Бомбее жуют его и плюют, жуют и опять плюют без проблем, днем и ночью. Это для здоровья очень хорошо, много жевать и обильно плевать. Хочешь попробовать? Я достану для тебя.
Я кивнул – не столько потому, что мне так уж хотелось вкусить прелести этого пана, сколько для того, чтобы побыть еще какое-то время возле Карлы. Она держалась очень естественно и явно чувствовала себя как дома на этой улице с ее непостижимыми порядками. То, что приводило меня в недоумение, для нее было, по-видимому, обычным делом. Она заставила меня вспомнить мужчину-иностранца в трущобах, которого я видел из окна автобуса. Казалось, она, как и он, пребывает в полном согласии с этим миром, принадлежит ему. Я позавидовал тому, с какой теплотой относятся к ней окружающие, приняв в свой круг.
Но это было не главное. Я не мог оторвать глаз от ее совершенной красоты. Я глядел на нее, и каждый вздох с трудом вырывался у меня из груди. Сердце словно тисками сдавило. Голос крови подсказывал: «Да, да, да…» В древних санскритских легендах говорится о любви, предопределенной кармой, о существовании связи между душами, которым суждено встретиться, соприкоснуться и найти упоение друг в друге. Согласно легендам, суженую узнаешь мгновенно, потому что твоя любовь к ней сквозит в каждом ее жесте, каждой мысли, каждом движении, каждом звуке и каждом чувстве, светящемся в ее глазах. Ты узнаешь ее по крыльям, невидимым для других, а еще потому, что страсть к ней убивает все другие любовные желания.
Те же легенды предупреждают, что такая предопределенная любовь может овладеть только одной из двух душ, соединенных судьбой. Но мудрость судьбы в данном случае противоположна любви. Любовь не умирает в нас именно потому, что она не мудра.
– А, ты смотришь на эту девушку! – воскликнул вернувшийся с паном Прабакер, проследив за моим взглядом. – Ты думаешь, что она красива, на? Ее зовут Карла.
– Ты знаешь ее?!
– О да! Карла – ее все знают, – ответил он таким громким театральным шепотом, что я испугался, как бы она его не услышала. – Ты хочешь познакомиться с ней?
– Познакомиться?
– Я могу поговорить с ней. Ты хочешь, чтобы она была твоим другом?
– Что?!
– О да! Карла мой друг и будет твоим другом тоже, мне кажется. Может быть, ты даже добудешь много денег для своей благородной личности в бизнесе с Карлой. Может быть, вы будете такими хорошими и тесными друзьями, что будете делать вместе много секса и создадите полное удовольствие своим телам. Я уверен, что у вас будет дружеское удовольствие.
Он уже потирал руки в предвкушении этой перспективы. Бетель окрасил его широкую улыбку в красный цвет. Мне пришлось схватить его за руку, чтобы помешать ему обратиться к ней с этими предложениями прямо на улице.
– Нет! Не надо! Ради всего святого, говори тише, Прабакер. Если я захочу поговорить с ней, то подойду к ней сам.
– О, я понял, – произнес Прабакер со смущенным видом. – Вы, иностранцы, называете это эротическим стимулированием, да?
– Нет. Эротическое стимулирование – это другое. Это… но не важно, забудь об этом.
– О, хорошо! Я всегда забываю об эротическом стимулировании. Я индийский парень, а мы, индийские парни, никогда не беспокоимся об эротическом стимулировании. Мы приступаем прямо к прыжкам и пиханиям, да-да!
Он схватил воображаемую женщину и стал пихать ее своими узкими бедрами, обнажив зубы в кроваво-красной улыбке.
– Пожалуйста, прекрати! – бросил я, испуганно оглянувшись на Карлу и ее друзей.
– Как скажете, мистер Линдсей, – вздохнул он, загасив ритмичные колебания бедер. – Но я все же могу сделать мисс Карле хорошее предложение твоей дружбы, если ты хочешь.
– Нет! Спасибо, конечно, но не надо никаких предложений. Я… О господи, давай оставим это. Скажи мне лучше, на каком языке говорит сейчас вон тот человек?
– Он говорит на хинди, мистер Линдсей. Подожди минуту, я скажу тебе, что он говорит.
Он без всякого смущения подошел к группе мужчин, окружавших Карлу, и затесался в их компанию, прислушиваясь к разговору. Никто не обратил на него никакого внимания. Прабакер кивал, смеялся вместе со всеми и спустя несколько минут вернулся ко мне:
– Он рассказывает одну очень смешную историю об инспекторе бомбейской полиции, очень большой и сильной особе в своем районе. Этот инспектор запер у себя в тюрьме одного очень хитрого парня, но этот хитрый парень уговорил этого инспектора отпустить его, потому что он сказал этому инспектору, что у него есть золото и драгоценные камни. А когда этот инспектор отпустил этого хитрого парня, он продал ему немного золота и драгоценных камней. Но это было ненастоящее золото и ненастоящие драгоценные камни. Это были подделки, очень дешевые ненастоящие вещи. И самое большое жульничество, что этот хитрый парень прожил в доме этого инспектора целую неделю до того, как продал ему ненастоящие драгоценности. И ходят большие слухи, что у этого хитрого парня были сексуальные дела с женой инспектора. И теперь этот инспектор такой безумный и такой сердитый, что все убегают, когда видят его.
– Слушай, откуда ты ее знаешь? Она живет здесь?
– Жена инспектора?
– Да нет же! Я говорю об этой девушке, о Карле.
– Знаешь… – протянул он, впервые нахмурившись, – у нас в Бомбее очень много девушек. Мы только пять минут идем от твоей гостиницы и уже видели сотни разных девушек. А еще через пять минут увидим еще несколько сотен. Каждые пять минут новые сотни девушек. А когда пойдем гулять дальше, будут еще сотни, сотни и сотни…
– Сотни девушек, великолепно! – саркастически прервал я его, выкрикнув это чуть громче, чем намеревался. Несколько прохожих оглянулись на меня с открытым возмущением. Я сбавил тон. – Меня не интересуют сотни девушек, Прабакер. Меня интересует… эта девушка, понимаешь?
– Хорошо, мистер Линдсей. Я расскажу тебе о ней все. Карла – очень известная бизнесменка в Бомбее. Она здесь очень давно. Пять лет, может быть. У нее есть небольшой дом недалеко. Все знают Карлу.
– А откуда она приехала?
– Наверное, из Германии или откуда-то рядом.
– Но, судя по произношению, она должна быть американкой.
– Да, должна быть, но вместо этого она германка или кто-то вроде германки. А теперь уже скорее даже очень почти индийка. Ты хочешь есть свой обед?
– Да, только подожди еще минуту.
Группа молодых людей распрощалась со знакомыми, стоявшими у лотка, и смешалась с толпой. Карла пошла вместе с ними, выпрямив спину и высоко, чуть ли не вызывающе, подняв голову. Я смотрел ей вслед, пока ее не поглотил людской водоворот, она же ни разу не оглянулась.
– Ты знаешь, где находится «Леопольд»? – спросил я Прабакера, когда мы продолжили свой путь.
– О да! Это замечательное, прекрасное место, бар «Леопольд»! Полный замечательных, прекрасных людей, очень, очень прекрасных. Все виды иностранцев там можно найти, все они делают там хороший бизнес. Сексуальный бизнес, наркотический, валютный, чернорыночный, и с озорными картинками, и контрабандный, и паспортный, и…
– Хорошо, Прабакер, я понял.
– Ты хочешь туда пойти?
– Нет, не сейчас. Может быть, позже. – Я остановился, Прабакер остановился тоже. – Послушай, а как тебя зовут твои друзья? Какое у тебя уменьшительное имя?
– О да, уменьшительное имя у меня тоже есть. Оно называется Прабу.
– Прабу… Мне нравится.
– Оно означает «Сын света» или что-то вроде. Хорошее имя, правда?
– Да, это хорошее имя.
– А твое хорошее имя, мистер Линдсей, не такое хорошее на самом деле, если ты не возражаешь, что я говорю это прямо твоему лицу. Мне не нравится, что оно такое длинное и такое скрипучее для человека с индийской речью.
– Вот как?
– Да, вот так, прости, что говорю. Мне оно не нравится. Нет, совсем нет. Даже если бы оно было Блиндсей, или Миндсей, или Ниндсей…
– Ну что поделаешь, – улыбнулся я. – Какое есть.
– Я думаю, что намного лучше уменьшительное имя – Лин, – предложил он. – Если у тебя нет протестов, я буду называть тебя Лин.
Имя было ничуть не хуже любого другого, под которыми я скрывался после побега, и точно такое же фальшивое. В последние месяцы я уже стал относиться с юмором, как к чему-то неизбежному, к тем новым именам, что мне приходилось принимать в разных местах, и к тем, что мне давали другие. Лин. Сам я никогда не додумался бы до такого сокращения. Но оно звучало правильно – я хочу сказать, что в нем слышалось что-то магическое, некий глас судьбы; я чувствовал, что оно подходит мне так же хорошо, как и скрываемое мной и оставленное в прошлом имя, которое мне дали при рождении и под которым меня упекли на двадцать лет в тюрьму.
Поглядев в большие темные глаза Прабакера, проказливо сверкавшие на его круглом лице, я улыбнулся и кивнул, соглашаясь. Тогда я еще не мог знать, что именно под этим именем, полученным от маленького бомбейского гида, я буду известен тысячам людей от Колабы до Кандагара и от Киншасы до Берлина. Судьба нуждается в посредниках и возводит свои крепости из камней, скрепляя их с помощью подобных случайных соглашений, которым вначале не придают особого значения. Сейчас, оглядываясь назад, я сознаю, что этот момент – казалось бы, несущественный и требовавший, лишь чтобы я ткнул наобум пальцем в «да» или «нет», – на самом деле был поворотным пунктом в моей жизни. Роль, которую я играл под этим именем, Линбаба, и личность, которой я стал, оказались более истинными и соответствующими моей природе, нежели все, чем или кем я был до этого.
– Ладно, пусть будет Лин.
– Очень хорошо! Я такой счастливый, что тебе нравится это имя! И как мое имя означает на хинди «сын света», так и твое тоже имеет очень замечательное и счастливое значение.
– Да? И что же оно означает?
– Оно означает «пенис»! – Прабакер был в восторге, чего, по-видимому, ожидал и от меня.
– Ни хрена себе!.. Да уж, просто потрясающе.
– Оно очень потрясающее и очень осчастливливающее. На самом деле оно не совсем означает это, но звучит похоже на «линг» или «лингам», а это уже и будет «пенис» на хинди.
– Знаешь, давай оставим эту затею, – бросил я, трогаясь с места. – Ты что, смеешься надо мной? Не могу же я ходить повсюду, представляясь так людям! «Здравствуйте, рад с вами познакомиться, я Пенис». Нет уж. Забудь об этом. Придется тебе смириться с Линдсеем.
– Нет-нет! Лин, я правду говорю тебе, это прекрасное имя, очень достойное, очень счастливое – необыкновенно счастливое имя! Люди будут восхищаться, когда услышат его. Пойдем, я покажу тебе. Я хочу отдать эту бутылку виски, которую ты подарил мне, своему другу мистеру Санджаю. Вот, как раз в этой мастерской. Ты только увидь, как ему понравится твое имя.
Сделав еще несколько шагов, мы оказались возле маленькой мастерской. Над открытой дверью была прикреплена написанная от руки вывеска:
РАДИОПОМОЩЬ
Предприятие по электрическому ремонту.
Ремонт и торговля. Владелец Санджай Дешпанде.
Санджай Дешпанде был плотно сбитым человеком пятидесяти с чем-то лет, с шапкой поседевших до белизны волос и белыми кустистыми бровями. Он сидел за массивным деревянным прилавком в окружении поврежденных – не иначе как взрывом – радиоприемников, выпотрошенных плееров и коробок с запасными частями. Прабакер приветствовал его, очень быстро защебетал что-то на хинди и выложил бутылку виски на прилавок. Мистер Дешпанде не глядя пришлепнул бутылку своей мощной пятерней, и та исчезла за прилавком. Из нагрудного кармана рубашки он вытащил пачку индийских банкнот, отсчитал несколько штук и протянул Прабакеру, держа руку ладонью вниз. Прабакер схватил деньги быстрым и плавным движением, как кальмар щупальцами, и сунул в карман. При этом он наконец прекратил щебетать и поманил меня.
– Это мой хороший друг, – объяснил он мистеру Дешпанде, похлопав меня по плечу. – Он из Новой Зеландии.
Мистер Дешпанде что-то буркнул.
– Он как раз сегодня приехал в Бомбей, остановился в «Индийской гостинице».
Мистер Дешпанде буркнул еще раз, изучая меня со слегка враждебным любопытством.
– Его зовут Лин, мистер Линбаба, – сказал Прабакер.
– Как его зовут?
– Лин, – ухмыльнулся Прабакер. – Его имя Линбаба.
Мистер Дешпанде с удивленной улыбкой приподнял свои живописные брови:
– Линбаба?
– Да-да! – ликовал Прабакер. – Лин. И также он очень прекрасный человек.
Мистер Дешпанде протянул мне руку, я пожал ее. Прабакер потащил меня за рукав к выходу.
– Линбаба! – окликнул меня мистер Дешпанде, когда мы были уже в дверях. – Добро пожаловать в Бомбей. Если у вас есть кассетник, или камера, или какая-нибудь дребезжалка, которые вы хотите продать, приходите ко мне, Санджаю Дешпанде, в «Радиопомощь». Я даю лучшие цены.
Я кивнул, и мы вышли на улицу. Оттащив меня от мастерской на некоторое расстояние, Прабакер остановился:
– Видишь, мистер Лин? Видишь, как ему нравится твое имя?
– Да, вроде бы, – пробормотал я, несколько озадаченный приемом, который оказал мне мистер Дешпанде, а также энтузиазмом Прабакера.
Когда я ближе познакомился с ним и стал ценить его дружбу, я догадался: Прабакер всем сердцем верит, что его улыбка воздействует как на людские сердца, так и на окружающий мир. И он был прав, конечно, но мне потребовалось много времени, чтобы понять это.
– А что значит это «баба» в конце имени? Лин – это понятно. Но почему Линбаба?
– «Баба» – это такое уважительное имя, – усмехнулся Прабакер. – Если поставить «баба» в конце твоего имени или в конце имени какой-нибудь особенной персоны, то это значит, что мы выражаем уважение – как к учителю, или священнику, или очень, очень старому человеку.
– Хм, понятно, – протянул я. – Но знаешь, Прабу, это, в общем-то, дела не меняет. Пенис есть пенис, так что не знаю…
– Но ты же видел, как твое имя понравилось мистеру Санджаю Дешпанде! Смотри, как оно понравится другим людям. Я скажу его им всем прямо сейчас, смотри! Линбаба! Линбаба! Линбаба!
Он вопил во весь голос, адресуясь ко всем встречным.
– Хорошо, Прабу, хорошо. Я верю тебе. Успокойся. – Теперь наступила моя очередь тянуть его вперед за рукав. – И мне казалось, ты хотел выпить виски, что я тебе дал, а не продать.
– Ох да, – вздохнул он. – Я хотел выпить его и уже пил его в уме. Но теперь, Линбаба, на деньги, которые я получил за продажу твоего прекрасного подарка мистеру Санджаю, я могу купить две бутылки очень плохого и замечательно дешевого виски, и еще останется очень много денег, чтобы купить новую красивую красную рубашку, одну толу хорошего чараса, билеты на прекрасный индийский кинофильм с кондиционированным воздухом и еду на два дня. Но подожди, Линбаба, ты не кушаешь свой пан. Ты должен положить его в уголок рта и жевать, а то он станет черствым и плохим для вкуса.
– Хорошо. И как же это сделать? Вот так?
Я сунул за щеку свернутый в трубочку листик, как это делали другие. Через несколько секунд мой рот наполнился сочной ароматной сладостью. Вкус напоминал медовый, но был в то же время острым и пряным. Лиственная обертка начала растворяться, и твердые кусочки измельченного кокосового ореха, фиников и семян смешались со сладким соком.
– Теперь ты должен выплюнуть немного пана, – наставлял меня Прабакер, сосредоточенно следя за тем, как работают мои челюсти. – Это надо сделать вот так, смотри.
Он выпустил изо рта струю красного сока, которая приземлилась в метре от нас, образовав кляксу величиной с ладонь. Это была филигранная работа мастера. Ни капли сока не осталось у него на губах. При напористом поощрении Прабакера я попытался повторить его достижение, но у меня изо рта пошли пузыри, а красная жидкость, проделав слюнявую дорожку на подбородке и на рубашке, смачно шлепнулась на мой правый ботинок.
– Рубашка без проблем, – заявил Прабакер и, нахмурившись, вытащил из кармана носовой платок и стал усердно втирать сок в мою рубашку, отчего пятно отнюдь не стало незаметнее. – Ботинки тоже не проблема. Я их тоже вытру. Но сейчас я должен задать тебе вопрос: ты любишь плавать?
– Плавать? – переспросил я, невольно проглотив пан, остававшийся во рту.
– Да, плавать. Я отведу тебя на пляж Чаупатти, очень замечательный пляж, и там ты можешь жевать и плевать и еще жевать, а потом плевать без костюма и не будешь тратить деньги на стирку.
– Послушай, я хотел спросить насчет экскурсий по городу. Ты ведь работаешь гидом?
– О да, я самый лучший гид в Бомбее и во всей Индии тоже.
– Сколько ты берешь за день?
Он проказливо взглянул на меня, надув щеки, что выражало, как я стал понимать, хитроумие, служившее подкладкой его широкой приветливой улыбки.
– Я беру сто рупий за день.
– О’кей.
– И туристы платят за мой обед.
– Это понятно.
– И за такси тоже туристы платят.
– Да, конечно.
– И за билеты на автобус.
– Разумеется.
– И за чай, если мы пьем его в жаркий день, чтобы освежить свои персоны.
– Да-да.
– И за сексуальных девушек, если мы идем к ним в прохладную ночь, когда мы чувствуем, что у нас набухла большая необходимость в наших…
– Ладно-ладно. Послушай, я заплачу тебе за целую неделю. Я хочу, чтобы ты показал мне Бомбей, объяснил, что тут к чему. Если все пройдет хорошо, в конце недели я заплачу тебе дополнительную премию. Как тебе эта идея?
В его глазах сверкнула улыбка, хотя голос почему-то был угрюмым.
– Это твое хорошее решение, Линбаба. Твое очень хорошее решение.
– Ну, это мы увидим, – рассмеялся я. – И еще я хочу, чтобы ты научил меня кое-каким словам на хинди.
– О да! Я могу научить тебя всему, что захочешь! Ха означает «да», нэхи – «нет», пани – «вода», кханна – «еда»…
– Хорошо-хорошо, не все сразу. Ну что, это ресторан? Слава богу, а то я уже умираю от голода.
Я хотел зайти в темный невзрачный ресторанчик, но тут Прабакер остановил меня. Лицо его по какой-то причине вдруг приняло серьезное выражение. Он нахмурился и проглотил комок в горле, как будто не знал, как приступить к делу.
– Прежде, чем мы будем есть эту прекрасную пищу, – произнес он наконец, – и прежде, чем мы… будем заниматься вообще каким-нибудь бизнесом, я должен… мне надо тебе что-то сказать.
– Ну давай…
Вид у него был настолько удрученный, что меня охватили дурные предчувствия.
– Так вот, знаешь… эта тола чараса, которую я продал тебе в гостинице…
– Да?
– Ну, понимаешь… это была цена для бизнеса. Настоящая цена, дружеская, – всего пятьдесят рупий за одну толу афганского чараса. – Он воздел руки кверху, затем уронил их, хлопнув себя по ляжкам. – Я попросил у тебя на пятьдесят рупий больше, чем надо.
– Ясно, – отозвался я спокойно.
С моей точки зрения, это был сущий пустяк, и мне хотелось рассмеяться. Однако для него это, очевидно, было очень важно, и я догадывался, что ему не часто приходится делать такие признания. Впоследствии Прабакер объяснил мне, что как раз в этот момент он решил стать моим другом, а это означало, что он всегда должен быть скрупулезно честен со мной, говоря что-либо или делая. С тех пор он неизменно резал правду-матку мне в глаза, что, конечно, не могло не подкупать, хотя порой и раздражало.
– Ну и что же мы будем делать с этим?
– Я предлагаю вот что, – ответил он очень серьезным тоном. – Мы быстро-быстро выкуриваем весь этот чарас по бизнес-цене, а потом я покупаю для нас новый. И теперь все будет для тебя – и для меня тоже – по дружеской цене. Такая политика будет без проблем?
Я рассмеялся, он засмеялся тоже. Я обнял Прабакера за плечи, и мы окунулись в дышавшую парами и ароматами суету переполненного ресторана.
– Лин, я думаю, я твой очень хороший друг, – заключил Прабакер, счастливо улыбаясь. – Мы с тобой удачные парни, да?
– Все может быть, – отозвался я. – Все может быть.
Несколько часов спустя я лежал в уютно обволакивавшей меня темноте, слушая ритмичное жужжание вращающегося на потолке вентилятора. Я чувствовал усталость, но заснуть не мог. Улица за окном, на которой днем бурлила деловая жизнь, теперь затихла в объятиях ночной духоты под влажным звездным небом. Удивительные и загадочные уличные сценки мелькали у меня перед глазами, как листья на ветру, кровь волновали новые надежды и перспективы, и я, лежа в темноте, не мог сдержать улыбку. Ни один человек в том мире, который я оставил позади, не знал, где я нахожусь. Ни один человек в Бомбее не знал, кто я такой. Я спрятался в промежутке между двумя мирами и чувствовал себя почти в безопасности.
Я подумал о Прабакере и его обещании вернуться утром, чтобы положить начало моему знакомству с городом. «Вернется ли он, – гадал я, – или же, гуляя по улице, я увижу, как он ведет куда-то нового туриста?» Я решил, с безразличной отчужденностью одинокого человека, что если он сдержит слово и придет утром, то можно будет, пожалуй, и вправду подружиться с ним.
Снова и снова мне вспоминалась эта женщина, Карла. Меня удивляло, что ее невозмутимое неулыбчивое лицо так упорно преследует меня. «Если вы заглянете как-нибудь в „Леопольд“, то, возможно, выясните это», – сказала она на прощание. Я не знал, приглашение это, вызов или предупреждение. Но что бы это ни значило, я был намерен поймать ее на слове и отыскать там. Не сразу, конечно. Сначала надо было получить хотя бы приблизительное представление о городе, который она, похоже, знала очень хорошо. Я решил, что пойду в «Леопольд» через неделю. А пока поброжу по Бомбею, познакомлюсь с ним.
На периферии моих размышлений, как всегда, вращались по своим постоянным орбитам воспоминания о семье и друзьях. Неотступные. Недосягаемые. Каждую ночь все заполняла безутешная тоска по тому, чем я заплатил за свою свободу, что я потерял. Каждую ночь меня кололи шипы стыда перед моими близкими. Я сознавал, чего стоит моя свобода для людей, которых я любил и которых, я был уверен, никогда больше не увижу.
– Мы могли бы сбить цену, – произнес вдруг высокий канадец из своего темного угла. Его слова прозвучали в жужжащей тишине, как громыхание камней, рассыпанных по металлической крыше. – Надо уговорить этого менеджера сбавить плату за номер. Снизить ее с шести баксов в день до четырех. Это, конечно, не такие уж большие деньги, но так здесь делаются все дела. Надо торговаться с этой публикой по любому поводу. Мы завтра уезжаем, а вы остаетесь здесь. Мы говорили об этом, пока вас не было, потому что мы… ну, вроде как беспокоимся о вас. Тут надо держать марку, приятель. Если не научишься этому и не настроишь себя на этот лад, они высосут из тебя все соки, эти людишки. Индийцев, живущих в городах, ничего, кроме своей корысти, не интересует. Я не хочу сказать, что все они такие. Индия великая страна, иначе мы не приехали бы сюда повторно. Но индийцы не такие, как мы. И они, в общем-то, ожидают того, что мы не будем с ними церемониться. Тут надо уметь настоять на своем.
Насчет платы за комнату он был, конечно, прав. Мы могли бы выгадать один-два доллара в день. Понятно, что, торгуясь, экономишь деньги. Это, как правило, толковый и вполне цивилизованный способ вести дела в Индии.
Но в то же время он был не прав. С годами мы с Анандом подружились. Тот факт, что я отнесся к нему с безотчетным уважением и сразу поверил ему, не пытаясь спорить и выторговать лишний доллар, расположил его ко мне. Впоследствии он не раз говорил мне это. Он знал, точно так же как и мы, что шесть долларов были не такой уж безумной ценой для трех иностранцев. Владельцы гостиницы ежедневно забирали себе четыре доллара с каждого номера – таково было их правило. Доллар-два сверх этого были тем минимумом, который служил зарплатой самого Ананда и трех коридорных, находившихся в его подчинении. В результате маленьких побед, которые удавалось одержать постояльцам над Анандом, он лишался дневного заработка, а они лишались возможности приобрести друга.
В ту первую ночь в Бомбее, закрыв глаза в темной дышащей тишине, я еще не знал всего этого. Я действовал, подчиняясь инстинкту, искушая судьбу. Я не знал, что уже отдал свое сердце этой женщине и этому городу. И, пребывая в счастливом неведении, я погрузился наконец в тихий сон без сновидений.
Глава 2
Карла появилась в «Леопольде» в обычное время, и, когда она остановилась около соседнего столика перекинуться парой слов с друзьями, я в который раз попытался мысленно подобрать природный эквивалент зеленого пламени в ее глазах. Мне приходили на ум опалы, листва и теплые морские отмели на коралловых островах. Но живые изумруды ее глаз в золотистой солнечной оправе сияли мягче, намного мягче. В конце концов я нашел естественную зелень, идеально соответствовавшую цвету ее прекрасных глаз, но это произошло лишь спустя несколько месяцев после того вечера в «Леопольде». И по непонятной, необъяснимой причине я не сказал ей об этом. Теперь я всем сердцем жалею, что промолчал. Прошлое отражается в нашем сознании сразу двумя зеркалами: одно яркое, в нем видно то, что мы когда-то сказали или сделали, другое темное, заполненное невысказанным и несделанным. Сегодня я понимаю, что с самого начала, в первые недели нашего знакомства – может быть, именно в тот вечер, – я должен был найти слова, чтобы сказать ей главное… чтобы сказать ей, что она мне нравится.
А она мне нравилась, мне нравилось в ней все. Гельвецианская[11 — Гельвеция – латинское название северо-западной части Швейцарии, населенной в древности гельветами.] мелодичность ее швейцарско-американского английского и то, как она медленно отбрасывала назад волосы большим и указательным пальцем, когда была чем-нибудь раздражена. Ее проницательные, остро отточенные высказывания и ее манера мягко и непринужденно коснуться пальцами симпатичного ей человека, проходя мимо него или садясь рядом. Мне нравилось, как она подолгу смотрела мне в глаза, не переходя ту грань, когда это могло смутить, а затем улыбалась, смягчая вызов, но не отводила взгляда. Так же прямо она смотрела в глаза всему миру, заставляя его спасовать первым, и это тоже нравилось мне, потому что тогда я относился к миру враждебно. Мир хотел убить меня или поймать. Он хотел засадить меня в ту же клетку, из которой я сбежал потому, что «хорошие парни» в форме охранников, получавшие зарплату за свою работу, приковывали меня к стене и избивали, ломая кости. Возможно, мир был прав, стремясь к этому. Возможно, я и не заслуживал лучшего. Но подавление личности, говорят психологи, вызывает у некоторых людей сопротивление, и я сопротивлялся миру каждую минуту своей жизни.
«Мы с миром разорвали отношения, – сказала мне как-то Карла в первые месяцы нашего знакомства. – Он пытается вновь наладить их, но я не поддаюсь. Наверное, я не умею прощать». Я и сам догадался об этом сразу же. С самой первой минуты я знал, что она очень похожа на меня. Я видел в ней решительность, доходившую почти до жестокости, храбрость, доходившую почти до свирепости, и одинокую яростную жажду любви. Я понимал все это, но не сказал ей ни слова. Я не сказал ей, как она мне нравится. Я будто онемел в те первые годы после побега, был контужен несчастьями, вторгшимися в мою жизнь. Мое сердце пребывало где-то на самой глубине, в тиши. Никто не мог и ничто не могло меня всерьез ранить. Никто не мог и ничто не могло сделать меня по-настоящему счастливым. Я был жесток и крут, а это, возможно, самое печальное, что может случиться с человеком.
– Ты становишься завсегдатаем заведения, – пошутила она, присаживаясь за мой столик и взъерошив мои волосы рукой.
Мне страшно нравилось, когда она так делала, – это показывало, что она понимает меня, понимает, что я не обижусь. Мне тогда стукнуло тридцать, я был выше среднего роста, довольно уродлив, широкоплеч, с объемистой грудью и большими руками. У людей не часто возникало желание взъерошить мне волосы.
– Да, пожалуй.
– Как сегодняшняя экскурсия с Прабакером? Интересно было?
– Он возил меня на остров Элефанта, показал пещеры.
– Красивое место, – отозвалась она, глядя на меня, но думая о чем-то своем. – Тебе надо посмотреть пещеры в Аджанте и Эллоре, если представится возможность. Я однажды провела целую ночь в одной из пещер Аджанты. Ездила туда с моим боссом.
– С твоим боссом?
– Да, с боссом.
– Он европеец, твой босс, или индиец?
– Да, собственно, ни то ни другое.
– Расскажи мне о нем.
– Зачем? – спросила она, нахмурившись и посмотрев на меня в упор.
Я сказал это только для того, чтобы продлить разговор, удержать ее возле себя, и настороженность, внезапно ощетинившаяся в ее резком коротком вопросе, удивила меня.
– Да просто так, – улыбнулся я. – Меня интересует, как люди устраиваются здесь на работу, каким образом зарабатывают, вот и все.
– Я встретила его пять лет назад в самолете, когда летела из Цюриха, – ответила она, глядя на свои руки и вроде бы успокоившись. – Он тоже сел там. У меня был билет до Сингапура, но к тому моменту, когда мы приземлились в Бомбее, он уговорил меня сойти вместе с ним и устроиться к нему на работу. Поездка в пещеры – это было… нечто особенное. Он организовал ее для меня, выхлопотав специальное разрешение, и сам отвез меня в Аджанту. Я провела целую ночь одна в огромной пещере с каменными изваяниями Будды и тысячью верещавших летучих мышей. Я чувствовала себя в безопасности – босс выставил охранника у входа в пещеру. Но это было невероятное, фантастическое ощущение. И это помогло мне… трезво взглянуть на вещи. Иногда сердце переворачивается у тебя именно так, как надо, – если ты понимаешь, что я имею в виду.
Я не вполне понимал это, но, когда она вопросительно посмотрела на меня, я кивнул.
– В такие моменты ты осознаешь нечто, чувствуешь что-то абсолютно новое для тебя. И только ты можешь воспринимать это именно таким образом. После той ночи я была уверена, что такого ощущения я не испытаю больше никогда и нигде, кроме Индии. Не могу этого объяснить, но я просто знала, что я дома, в безопасности, и что все будет хорошо. И, как видишь, я все еще здесь…
– А чем он занимается?
– Кто?
– Твой босс. Что у него за дело?
– Импорт, – ответила она. – И экспорт.
Она замолчала и, повернув голову, окинула взглядом другие столики.
– Ты не скучаешь по дому?
– По дому?
– Ну да, по твоему прежнему дому, я имею в виду – по Швейцарии?
– Да, в некотором роде. Я выросла в Базеле – ты не был там?
– Нет, я вообще ни разу не был в Европе.
– В таком случае тебе надо съездить туда и обязательно побывать в Базеле. Знаешь, это истинно европейский город. Рейн разделяет его на Большой и Малый Базель, и в них совершенно разный стиль жизни и разные взгляды на нее. Словно живешь в двух городах одновременно. Меня это вполне устраивало когда-то. И в этом месте сходятся три государства, так что в любой момент можешь пересечь границу и прогуляться по Франции или Германии. Можно позавтракать во Франции, пообедать в Швейцарии, а поужинать в Германии, удалившись от города всего на несколько километров. Я скучаю не столько по Швейцарии, сколько по Базелю.
Она внезапно остановилась и посмотрела на меня сквозь пушистые неподкрашенные ресницы:
– Прошу прощения за лекцию по географии.
– Не за что извиняться. Это очень интересно. Продолжай, пожалуйста.
– Знаешь, Лин, – проговорила она медленно, – а ты нравишься мне.
Ее глаза сжигали меня на зеленом огне. Я чуть покраснел – не от смущения, а от стыда за то, что не решился первым сказать «ты мне нравишься», – простые слова, которые она произнесла с такой легкостью.
– В самом деле? – как можно небрежнее отозвался я, стараясь не показать, как много это значит для меня.
Ее губы изогнулись в тонкой улыбке.
– Да. Ты умеешь слушать. Это опасное оружие, потому что против него трудно устоять. Чувствовать, что тебя слушают, – это почти самое лучшее, что есть на свете.
– А что же самое лучшее?
– Ну, это любой скажет. Самое лучшее – это власть.
– Неужели? – рассмеялся я. – А как насчет секса?
– Нет. Оставив в стороне биологию, можно сказать, что главное в сексе – борьба за власть. Потому-то он всех и лихорадит.
Я опять рассмеялся:
– А как же любовь? Очень многие считают, что самое лучшее – любовь, а не власть.
– Они ошибаются, – ответила она с лаконичной непререкаемостью. – Любовь – это нечто противоположное власти. Именно по этой причине мы так боимся ее.
– Карла, дорогая, что за жуткие вещи ты говоришь! – воскликнул подошедший к нам Дидье Леви, садясь рядом с Карлой. – Не иначе как у тебя самые коварные намерения в отношении нашего Лина.
– Ты же не слышал ни слова из нашего разговора, – прожурчала она.
– Мне не надо слышать тебя. Достаточно посмотреть на его лицо. Ты закидала его своими загадками, и у него уже голова идет кругом. Ты забываешь, Карла, что я слишком хорошо тебя знаю. Но это не страшно, Лин, сейчас мы приведем тебя в чувство.
Он подозвал одного из официантов, выкрикнув номер, вышитый на нагрудном кармане его красного пиджака:
– Эй, чар номер! До батле бир![12 — Эй, четвертый номер! Две бутылки пива! (смесь хинди и англ.)] Что ты будешь, Карла? Кофе? Эй, чар номер! Эк кофе аур. Джалди каро![13 — И кофе. Побыстрее! (хинди)]
Дидье Леви было тридцать пять лет, но из-за мясистых складок и глубоких борозд на пухлом лице, придававших ему потасканный вид, он выглядел намного старше. Бросая вызов влажному климату, он постоянно носил мешковатые полотняные брюки, хлопчатобумажную рубаху и мятый серый шерстяной пиджак спортивного покроя. Его черные волосы, густые и курчавые, всегда были подстрижены точно до воротника рубашки, а щетина на его усталом лице неизменно казалась трехдневной. Говоря по-английски с утрированным акцентом, он то и дело с каким-то вялым ехидством поддевал как друзей, так и незнакомых. Разумеется, не всем нравились его нападки, но люди терпели их, потому что Дидье часто бывал полезен, а порой просто незаменим. Он знал, где можно купить или продать любую вещь и любой товар – от пистолета до драгоценных камней или килограмма белоснежного тайского героина лучшего качества. Иногда он хвастался, что готов почти на любой поступок ради соответствующей денежной суммы – при условии, конечно, что это не создаст слишком серьезной угрозы его жизни и благополучию.
– Мы обсуждали, что именно люди считают самым лучшим на свете, – сказала Карла. – Свое мнение на этот счет можешь не высказывать, я его знаю.
– Ну да, ты скажешь, что для меня самое лучшее – деньги, – протянул Дидье ленивым тоном, – и мы оба будем правы. Всякий здравомыслящий человек рано или поздно понимает, что деньги в нашем мире – практически все. Добродетель и возвышенные идеалы, конечно, имеют свою ценность в исторической перспективе, но в повседневной жизни именно деньги позволяют нам перебиваться со дня на день, а их недостаток бросает нас под колеса той же истории. А ты что сказал по этому поводу, Лин?
– Он еще не успел ничего сказать и теперь, в твоем присутствии, уже не будет иметь такой возможности.
– Ну, Карла, не преувеличивай. Так что же это, по-твоему, Лин? Мне было бы очень интересно узнать.
– Ну, если уж ты вынуждаешь меня назвать что-то определенное, то я сказал бы, что это свобода.
– Свобода делать что? – спросил Дидье, усмехнувшись на последнем слове.
– Не знаю. Может быть, всего лишь свобода сказать «нет». Если ты можешь свободно сделать это, то, по существу, тебе больше ничего и не надо.
Прибыли кофе и пиво. Официант шваркнул их на стол с подчеркнутым презрением ко всяким любезностям. Обслуживание в бомбейских магазинах, гостиницах и ресторанах в те годы могло быть каким угодно – от доброжелательной или заискивающей учтивости до холодной или агрессивной грубости. О хамстве официантов «Леопольда» ходили легенды. «Если хочешь, чтобы тебя смешали с грязью, – заметила однажды Карла, – то нигде этого не сделают с таким блеском, как в „Леопольде“».
– Тост! – объявил Дидье, поднимая кружку и чокаясь со мной. – За свободу… пить сколько влезет! Салют!
Отпив полкружки, он удовлетворенно вздохнул всей грудью и прикончил остальное. Пока он наливал себе вторую порцию, к нам подсела еще одна пара. Молодого темноволосого человека звали Модена. Он был угрюмым и неразговорчивым испанцем, обделывавшим разные делишки на черном рынке с туристами из Франции, Италии и Африки. Его спутница, стройная хорошенькая немка по имени Улла, была проституткой и в последнее время позволяла Модене называть себя своей любовницей.
– А, Модена, ты пришел как раз вовремя для следующего заказа! – воскликнул Дидье и, перегнувшись через Карлу, хлопнул молодого человека по спине. – Мне виски с содовой, если не возражаешь.
Испанец вздрогнул от шлепка и нахмурился, но подозвал официанта и заказал выпивку. Улла тем временем разговаривала с Карлой на смеси немецкого с английским, отчего самые интересные детали – то ли случайно, то ли не случайно – становились совершенно непонятными.
– Но я же не знала, на? Я даже предположить не могла, что он такой Spinner![14 — Лгун, обманщик (нем.).] Прямо Verruckt[15 — Псих, сумасшедший (нем.).] какой-то, это точно. А вначале он показался мне удивительно честным и порядочным человеком. Или, может, это как раз и было подозрительно, как ты считаешь? Может быть, он выглядел слишком уж порядочным? На джa[16 — Здесь: ну и вот (хинди).], не прошло и десяти минут, как он wollte auf der Klamotten kommen[17 — Ему приглянулись мои тряпки (нем.).]. Мое лучшее платье! Мне пришлось драться с этим Sprintficker[18 — Здесь: импотентом, ублюдком (нем.).], чтобы отнять у него платье! Spritzen wollte er[19 — Он хотел спустить (нем.).] прямо на мою одежду! Gibt’s ja nicht[20 — Уму непостижимо (нем.).]. Чуть позже я вышла в ванную, чтобы нюхнуть кокаина, а когда вернулась, то увидела das er seinen Schwanz ganz tief in einer meiner Schuhe hat![21 — Что он засунул свой член целиком в мою туфлю! (нем.)] Можешь себе представить?! В мою туфлю! Nicht zu fassen[22 — В голове не укладывается (нем.).].
– Приходится признать, – мягко заметила Карла, – что ненормальные личности прямо липнут к тебе, Улла.
– Ja, leider[23 — Увы, да (нем.).]. Что я могу возразить? Я нравлюсь всем ненормальным.
– Не слушай ее, любовь моя, – обратился к ней Дидье утешительным тоном. – Ненормальность часто служит основой самых лучших отношений – да практически всегда, если подумать!
– Дидье, – отозвалась Улла с утонченной любезностью, – я никогда еще не посылала тебя на хер?
– Нет, дорогая! – рассмеялся он. – Но я прощаю тебе эту небольшую забывчивость. И потом, это ведь всегда подразумевается как нечто само собой разумеющееся.
Прибыло виски в четырех стаканах. Официант, взяв медную открывалку, подвешенную на цепочке к его поясу, откупорил бутылки с содовой. Крышки при этом, ударившись об стол, соскочили на пол. Пена залила весь стол, заставив нас отпрянуть и извиваться, спасаясь от нее, а официант хладнокровно набросил на лужу грязную тряпку.
С двух сторон к нам подошли двое мужчин. Один из них хотел поговорить с Дидье, другой – с Моденой. Воспользовавшись моментом, Улла наклонилась ко мне и под столом всунула мне в руку небольшой сверток, в котором прощупывались банкноты. Глаза ее умоляли меня не выдавать ее. Я положил сверток в карман, не поглядев на него.
– Так ты уже решил, сколько ты тут пробудешь? – спросила она меня.
– Да нет пока. Я никуда не спешу.
– Разве тебя никто не ждет? – спросила она, улыбаясь с умелым, но бесстрастным кокетством. – Ты не должен навестить кого-нибудь?
Улла инстинктивно стремилась соблазнить всех мужчин. Она точно так же улыбалась, разговаривая со своими клиентами, друзьями, официантами, даже с Дидье – со всеми, включая своего любовника Модену. Впоследствии мне не раз приходилось слышать, как люди осуждают Уллу – иногда безжалостно – за то, что она флиртует со всеми подряд. Я был не согласен с ними. Когда я узнал ее ближе, у меня сложилось впечатление, что она кокетничает со всем миром потому, что кокетство – единственная форма проявления доброты, какую она знает. Так она пыталась выразить свое хорошее отношение к людям и заставить их – мужчин в первую очередь – хорошо относиться к ней. Она считала, что в мире слишком мало доброты, и не раз говорила об этом. Ее чувства и мысли не были глубокими, но она действовала из лучших побуждений, и трудно было требовать от нее чего-то большего. И к тому же, черт побери, она была красива, а ее улыбка была очень приятной.
– Нет, – ответил я ей, – никто меня не ждет, и мне не надо никого навещать.
– И у тебя нет никакой… wie soll ich das sagen[24 — Как это сказать? (нем.)] – программы? Ты не делаешь каких-нибудь планов?
– Да нет, в общем-то. Я работаю над книгой.
После побега я со временем убедился, что часть правды – а именно тот факт, что я писатель, – может служить мне очень удобным прикрытием. Это было достаточно неопределенно, чтобы оправдать неожиданный отъезд и длительное отсутствие, а когда я объяснял, что «собираю материал», это можно было понимать очень широко и вполне соответствовало тому, чем я занимался, – добыванию сведений о тех или иных местах, транспорте, фальшивых паспортах. К тому же это прикрытие оберегало меня от нежелательных расспросов: как только возникала угроза, что я примусь пространно рассуждать о тонкостях писательского ремесла, большинство людей, кроме самых настырных, предпочитали сменить тему.
Я ведь и в самом деле был писателем. Я начал писать в Австралии, когда мне было чуть больше двадцати. Но вскоре после того, как я опубликовал свою первую книгу и начал приобретать некоторую известность, разрушился мой брак, я потерял дочь, лишенный права ее видеть, и загубил свою жизнь, связавшись с наркотиками и преступным миром, попав в тюрьму и сбежав из нее. Но и после побега привычка писать не оставила меня, это было моим естественным времяпрепровождением. Даже в «Леопольде» мои карманы были набиты исписанными клочками бумаги, салфетками, квитанциями и медицинскими рецептами. Я писал не переставая в любом месте и в любых условиях. И теперь я могу подробно рассказать о тех первых днях в Бомбее именно потому, что стоило мне оказаться в одиночестве, как я принимался заносить в тетрадь свои впечатления о встречах с друзьями, разговоры, которые мы вели. Привычка к писательству, можно сказать, спасла меня, приучив к самодисциплине и к регулярному выражению словами всего пережитого за день. Это помогало мне справиться со стыдом и его неразлучным спутником – отчаянием.
– Вот Scheisse[25 — Дерьмо (нем.).], я не представляю, о чем можно писать в Бомбее. Это нехорошее место, ja. Моя подруга Лиза говорит, что когда придумали слова «помойная яма», то имели в виду как раз такое место. Я тоже считаю, что это подходящее название для него. Ты лучше поезжай в какое-нибудь другое место, чтобы писать, например в Раджастхан. Я слышала, что там не помойная яма, в Раджастхане.
– А знаешь, она права, Лин, – заметила Карла. – Здесь не Индия. Здесь собрались люди со всей страны, но Бомбей – это не Индия. Бомбей – отдельный мир. Настоящая Индия далеко отсюда.
– Далеко?
– Да, там, куда не доходит свет.
– Наверное, вы правы, – ответил я, подивившись ее метафоре. – Но пока что мне здесь нравится. Я люблю большие города, а Бомбей – третий по величине город мира.
– Ты уже и говорить стал, как этот твой гид, – насмешливо бросила Карла. – Боюсь, Прабакер учит тебя слишком усердно.
– Он действительно многому научил меня. Вот уже две недели он забивает мне голову всевозможными фактами и цифрами. И это удивительно, если учесть, что он бросил школу в семь лет и научился читать и писать здесь, на бомбейских улицах.
– Какими фактами и цифрами? – спросила Улла.
– Ну, например, касающимися населения Бомбея. Официально оно составляет одиннадцать миллионов, но Прабу говорит, что у парней, которые заправляют подпольным бизнесом и ведут свой учет, более точные цифры – от тринадцати до пятнадцати миллионов. Здесь говорят на двух сотнях языков и диалектов. На двух сотнях – подумать только! Это все равно что жить в самом центре мира.
Словно желая проиллюстрировать мои слова, Улла стала очень быстро говорить что-то Карле на немецком. Модена подал ей знак, и она поднялась, взяв со стола свой кошелек и сигареты. Неразговорчивый испанец все так же молча вышел из-за стола и направился к арке, ведущей на улицу.
– Мне надо работать, – объявила Улла, обворожительно улыбаясь. – До завтра, Карла. В одиннадцать, ja? Лин, может, поужинаем завтра вместе, если ты здесь будешь? Мне этого хотелось бы. Пока! Tschus![26 — Пока! (нем.)]
Она вышла вслед за Моденой, провожаемая восхищенными плотоядными взглядами всех окружающих мужчин. Дидье в этот момент решил побеседовать со знакомыми, сидевшими за другим столиком. Мы остались с Карлой вдвоем.
– Не стоит слишком полагаться на ее слова, – сказала Карла.
– На какие слова?
– Что она будет ужинать завтра с тобой. Она всегда так говорит.
– Я знаю, – усмехнулся я.
– Она тебе нравится, да?
– Да, нравится. Почему ты улыбаешься? Разве в этом есть что-то забавное?
– В некотором смысле – да. Ты ей тоже нравишься.
Карла помолчала, и я ожидал, что она объяснит сказанное, но она переменила тему:
– Улла дала тебе деньги, американские доллары. Она сообщила мне это по-немецки, чтобы Модена не понял. Ты должен отдать их мне, а она возьмет их завтра, когда мы встретимся в одиннадцать.
– Хорошо. Отдать их прямо сейчас?
– Нет, не здесь. Мне сейчас надо уйти – у меня назначена встреча. Я вернусь примерно через час. Ты можешь дождаться меня? Или, если тебе тоже куда-то надо, прийти сюда через час снова? А потом можешь проводить меня домой, если хочешь.
– О чем речь? Я буду здесь.
Она встала, и я тоже поднялся, чтобы отодвинуть ее стул. Она слегка улыбнулась мне и приподняла одну бровь – не то удивленно, не то насмешливо, а может, это означало и то и другое.
– А насчет Бомбея я не шутила. Тебе вправду надо уехать отсюда.
Я смотрел, как она выходит на улицу и садится на заднее сиденье частного такси, по-видимому ожидавшего ее. Когда автомобиль кремового цвета стал медленно вписываться в вечерний поток машин, из переднего окна с пассажирской стороны высунулась мужская рука, державшая в толстых пальцах зеленые четки и махавшая прохожим, чтобы они уступили дорогу.
Оставшись один, я опять сел, прислонившись спиной к стене, и погрузился в шумную атмосферу «Леопольда». Он был самым большим рестораном в Колабе и одним из самых больших во всем городе. В прямоугольном зале первого этажа могли бы поместиться четыре других обычного размера. Две металлические двери вели к деревянным аркам, откуда открывалась панорама улицы Козуэй, самой оживленной и живописной в этом районе. На втором этаже находился более интимный бар с кондиционерами; его подпирали массивные колонны, разделявшие нижний зал на несколько частей, примерно равных по величине. Вокруг колонн были расставлены столики. К колоннам, так же как и к стенам, было прикреплено множество зеркал, которые служили дополнительным преимуществом заведения, давая посетителям возможность наблюдать за другими украдкой, а то и в открытую. Многие развлекались, любуясь собственным отражением, размноженным сразу в нескольких зеркалах. Короче, в «Леопольде» ты мог вволю разглядывать себя и других, быть объектом наблюдения и наблюдать, как тебя разглядывают.
В зале имелось штук тридцать столиков с крышками из пепельно-жемчужного индийского мрамора. Возле каждого из них стояло не меньше четырех кедровых стульев. Карла называла их шестидесятиминутными сиденьями, потому что они были достаточно неудобными, чтобы отбить у посетителей желание задержаться на более долгий срок. Целый рой вентиляторов с широкими лопастями жужжал под потолком, и люстры из матового стекла медленно и величественно покачивались в струе воздуха. Бордюр красного дерева окаймлял ярко окрашенные стены, окружал окна и двери и служил рамой зеркалам. На столах вдоль одной из стен были навалены в роскошном изобилии фрукты, подававшиеся на десерт или в виде соков, – пау-пау[27 — Пау-пау – плоды азимины, кустарникового растения семейства анноновых.], папайя, кремовые яблоки, сладкий лайм, виноград, арбузы, бананы, сантра[28 — Сантра – разновидность апельсина.] и четыре сорта манго – если был его сезон. На возвышении за широкой стойкой тикового дерева восседал метрдотель, наблюдавший, подобно капитану на корабельном мостике, за тем, что происходит на палубе. За его спиной был узкий коридор, из которого то и дело вырывались клубы пара и табуны официантов; иногда в конце коридора можно было разглядеть уголок кухни и царивший там кавардак.
Несколько поблекшая, но все же впечатляющая роскошь «Леопольда» приковывала взгляд каждого, кто входил под широкие деревянные арки в этот красочный и блестящий мир. Но самой выдающейся достопримечательностью «Леопольда» могли любоваться лишь его самые незаметные служители: когда ресторан закрывался и уборщики отодвигали в сторону всю мебель, глазам представали во всем их блеске полы. Шестиугольные плитки, расходившиеся лучами от сверкавшего, как солнечный взрыв, центра, образовывали сложный узор, характерный для полов в северных индийских дворцах. И это пышное великолепие пропадало втуне для посетителей, любовавшихся лишь собственными отражениями в зеркалах, и раскрывало свою тайну только босоногим уборщикам, беднейшим и скромнейшим из городских тружеников.
Каждое утро, когда двери ресторана с его вымытыми полами распахивались, наступал час благословенной прохлады, и «Леопольд» был оазисом спокойствия в водовороте городской суеты. Затем вплоть до самого закрытия в полночь он был переполнен как туристами из сотен стран мира, так и местными жителями самых разных национальностей, съезжавшимися сюда со всех концов города для обсуждения своих дел и заключения сделок. Здесь торговали не только наркотиками, валютой, паспортами, золотом и сексом, но и менее осязаемым товаром – назначениями, протекциями, контрактами, сферами влияния. Это была целая система подкупа, игравшая важную роль в развитии индийского бизнеса.
«Леопольд» был неофициальной зоной свободной торговли, а находившийся через дорогу от него бдительный во всех других отношениях полицейский участок Колабы старательно закрывал на это глаза. Деловая жизнь в ресторане подчинялась строго определенным правилам, разделявшим территорию на отдельные участки. Так, индийские проститутки, обвитые гирляндами цветов жасмина и укутанные в многослойные, усыпанные украшениями сари, не имели права находиться в нижнем зале и могли только сопровождать посетителей, направлявшихся в бар на втором этаже. Проститутки европейского происхождения, напротив, допускались лишь в нижнее помещение, где они пытались привлечь внимание мужчин, сидевших за столиками, если не хотели заниматься этим на улице у входа. Сделки с наркотиками и другими контрабандными товарами заключались за столиками совершенно открыто, но передавать товар разрешалось только за пределами ресторана. Поэтому часто можно было наблюдать, как продавец и покупатель, достигнув соглашения, выходили из зала, чтобы совершить обмен, а затем возвращались на свои места. Даже правительственные чиновники и заправилы подпольного бизнеса были обязаны подчиняться этим неписаным законам: соглашения, достигнутые в полутемных кабинках верхнего бара, скреплялись рукопожатиями и наличными лишь на улице, так что никто не мог сказать, что он заключил нелегальную сделку в «Леопольде».
Тонкие линии, столь искусно протянутые в «Леопольде» от легального к нелегальному и разграничивавшие их, продолжались и за его стенами. Уличные торговцы с подчеркнутым пренебрежением к закону продавали подделки под «Лакосту», «Кардена» и «Картье»; водители припаркованных у тротуара такси за умеренную плату отворачивали свое зеркальце, чтобы не видеть, что происходит на заднем сиденье их автомобиля, а полицейские из заведения напротив, прилежно выполнявшие свои обычные обязанности, платили немалые взятки за то, чтобы выполнять их именно на этом весьма прибыльном участке в центре города.
Просиживая вечер за вечером в «Леопольде» и прислушиваясь к разговорам за соседними столиками, я постоянно слышал, как иностранцы, да и многие местные, жалуются на коррупцию, пронизывающую сверху донизу всю общественную жизнь и коммерческую деятельность в Бомбее. За несколько недель, проведенных в городе, я имел возможность убедиться, что их жалобы по большей части справедливы. Однако нет страны, свободной от коррупции. Не придумано такой системы, которая исключала бы незаконный оборот денег. Даже в обществе, проникнутом самыми благородными идеями, привилегированные классы подмазывают колеса, на которых катятся вперед, с помощью подкупа и нелегальных сделок. И во всем мире богатые живут лучше и дольше бедных. «Взяточничество может быть нечестным и честным, – сказал мне однажды Дидье Леви. – Нечестное одинаково во всех странах, а честное – специфическая индийская разновидность». Я улыбнулся, понимая, что он имеет в виду. Индия была открытой и честной страной. Я почувствовал это в первый же день, и мне это очень нравилось. Я инстинктивно старался не осуждать ничего в этом городе, который я все больше любил. Мой инстинкт велел мне наблюдать, участвовать в текущей вокруг меня жизни и радоваться ей. Тогда я еще не мог знать, что в ближайшие месяцы и годы моя свобода и сама жизнь будут зависеть от индийского обычая вовремя отвернуть зеркальце.
– Как! Ты один? – воскликнул вернувшийся Дидье. – C’est trop![29 — Это уж слишком; так нельзя (фр.).] Находиться здесь одному, дружище, – это неприлично, а право быть неприличным я зарезервировал за собой. Давай выпьем.
Он плюхнулся на стул рядом со мной и подозвал официанта, чтобы заказать выпивку. Я каждый вечер в течение нескольких недель разговаривал с Дидье в «Леопольде», но никогда – наедине. Меня удивило, что он решил присоединиться ко мне, когда рядом не было ни Уллы, ни Карлы, ни кого-либо еще из их компании. Это означало, что он считает меня своим, и я был благодарен ему за это.
Он нетерпеливо барабанил пальцами по столу, пока не прибыло виски, после чего с жадностью опрокинул разом полстакана и лишь затем с облегчением вздохнул и повернулся ко мне, прищурившись и улыбаясь:
– Ты, я вижу, погружен в глубокое раздумье.
– Я думал о «Леопольде» – наблюдал, вникал во все это.
– Жуткое заведение, – обронил он, тряхнув густыми кудрями. – Не могу себе простить, что так люблю его.
Мимо нас прошли двое мужчин в свободных брюках, собранных у щиколоток, и темно-зеленых жилетах поверх доходивших до бедер рубах с длинными рукавами. Дидье смотрел на них очень пристально и, когда они кивнули ему, широко улыбнулся и помахал в ответ. Пара присоединилась к своим друзьям, сидевшим неподалеку от нас.
– Опасные люди, – пробормотал Дидье, глядя все с той же улыбкой им в спину. – Афганцы. Тот, что поменьше, Рафик, торговал книжками на черном рынке.
– Книжками?
– Паспортами. Раньше он был очень большой шишкой, заправлял всей торговлей. Теперь занимается переправкой дешевого героина через Пакистан. Зарабатывает на этом гораздо больше, но зуб на тех, кто выпер его из книжного дела, все же имеет. Тогда положили немало людей – его людей.
Будто услышав его слова – хотя этого никак не могло быть, – афганцы вдруг обернулись и пристально уставились на нас с мрачным видом. Один из сидевших за их столиком наклонился к ним и проговорил что-то, показав на Дидье, а затем на меня. Оба афганца сосредоточили все внимание на мне, глядя прямо в глаза.
– Да, немало людей положили, – повторил Дидье вполголоса, продолжая широко улыбаться до тех пор, пока парочка не отвернулась от нас. – Я ни за что не стал бы ввязываться в какие-нибудь дела с ними, если бы только они не вели их так блестяще.
Он говорил уголком рта, как заключенный под взглядом охранника. Это выглядело довольно забавно. В австралийских тюрьмах это называлось «открыть боковой клапан», и мне живо вспомнилась моя тюремная камера. Я вновь услышал металлический скрежет ключа в замке, почувствовал запах дешевого дезинфектанта и влажный камень у меня под рукой. Подобные вспышки воспоминаний часто бывают у бывших зэков, копов, солдат, пожарных, водителей «скорой помощи» – у всех тех, кто имеет опыт травмирующих переживаний. Иногда эти вспышки происходят совершенно неожиданно в таких неподходящих местах и ситуациях, что вызывают естественную реакцию в виде идиотского непроизвольного смеха.
– Думаешь, я шучу? – вспыхнул Дидье.
– Нет-нет, вовсе не думаю.
– Все так и было, уверяю тебя. Развязалась небольшая война за передел сфер влияния… Смотри-ка, и победители явились сюда же – Байрам и его ребята. Он иранец. В этом деле он был главным исполнителем, а работает он на Абдула Гани, который, в свою очередь, работает на одного из крупнейших мафиози в этом городе, Абделя Кадер-хана. Они выиграли эту войну и прибрали к рукам всю торговлю паспортами.
Он незаметно кивнул на группу молодых людей в модных джинсах и пиджаках, вошедшую в зал через одну из арок. Прежде чем занять столик у дальней стены, они подошли к метрдотелю, чтобы выразить свое почтение. Главным у них был высокий упитанный мужчина лет тридцати с небольшим. Приподняв полное жизнерадостное лицо над головами своих спутников, он обвел взглядом весь зал, уважительно кивая или дружески улыбаясь знакомым. Когда его взгляд остановился на нашем столике, Дидье приветственно помахал ему.
– Да, кровь… – проговорил он, дружелюбно улыбаясь. – Пройдет немало времени, прежде чем эти паспорта перестанут пахнуть кровью. Меня-то это не касается. В еде я француз, в любви итальянец, а в делах швейцарец – строго блюду нейтралитет. В одном я уверен: из-за этих паспортов будет пролито еще много крови.
Взглянув на меня, он похлопал глазами, словно желая сморгнуть навязчивое видение.
– Похоже, я напился, – проговорил он с приятным удивлением. – Давай закажем еще.
– Заказывай себе. Мне хватит того, что осталось. А сколько стоят эти паспорта?
– От сотни до тысячи. Долларов, разумеется. Хочешь купить?
– Да нет…
– Точно так же говорят «нет» бомбейские дельцы, промышляющие золотом. Их «нет» означает «может быть», и чем категоричнее оно звучит, тем вероятнее «может быть». Когда тебе понадобится паспорт, обращайся ко мне, я добуду его для тебя – за небольшие комиссионные, само собой.
– И много тебе удается заработать здесь… комиссионных?
– Ну… не жалуюсь, – усмехнулся он, поблескивая голубыми глазами, подернутыми розовой алкогольной влагой. – Свожу концы с концами, как говорится, и, когда они сходятся, получаю плату с обоих концов. Вот только что я провернул сделку с двумя кило манальского гашиша. Видишь парочку возле фруктов – парень с длинными белокурыми волосами и девушка в красном? Это итальянские туристы, они хотели купить гашиш. Некий человек, ты мог заметить его на улице – босой, в грязной рубашке, – зарабатывает там свои комиссионные. Он направил их ко мне, а я в свою очередь переправил их Аджаю, который торгует гашишем. Великолепный преступник. Вон, смотри, он сидит вместе с ними, все улыбаются. Сделка состоялась, и моя работа на сегодня закончена. Я свободен!
Он постучал по столу, в очередной раз призывая официанта, но, когда тот принес маленькую бутылочку, Дидье какое-то время сидел, обхватив ее обеими руками и глядя на нее в глубокой задумчивости.
– Сколько ты собираешься пробыть в Бомбее? – спросил он, не глядя на меня.
– Не знаю точно. Забавно, в последние дни все только и спрашивают меня об этом.
– Ты уже прожил здесь дольше обычного. Большинство приезжих стремятся поскорее смыться отсюда.
– Тут еще гид виноват, Прабакер. Ты знаешь его?
– Прабакер Харре? Рот до ушей?
– Да. Он водит меня по городу вот уже несколько недель. Я повидал все храмы, музеи и художественные галереи, а также целую кучу базаров. Но он пообещал, что с завтрашнего дня начнет показывать мне Бомбей с другой стороны – «настоящий город», как он сказал. Он меня заинтриговал, и я решил задержаться ради этого, а там уже будет видно. Я никуда не спешу.
– Это очень грустно, если человек никуда не спешит. Я бы на твоем месте не стал так открыто признаваться в этом, – заявил он, по-прежнему не отрывая взгляда от бутылки. Когда Дидье не улыбался, лицо его становилось отвислым, дряблым, мертвенно-бледным. Он был нездоров, но его нездоровье можно было исправить. – В Марселе есть поговорка: «Человек, который никуда не спешит, никуда не попадает». Я уже восемь лет никуда не спешу.
Внезапно его настроение изменилось. Он плеснул напиток в стакан и поднял его с улыбкой:
– Выпьем за Бомбей, в котором так здорово никуда не спешить! И за цивилизованного полисмена, который берет взятки хоть и вопреки закону, но зато ради порядка. За бакшиш!
– Я не против выпить за это, – отозвался я, звякая своим стаканом о его. – Дидье, а что тебя удерживает в Бомбее?
– Я француз, – ответил он, любуясь жидкостью в стакане. – Кроме того, я гей, иудей и преступник. Примерно в таком порядке. Бомбей – единственный город из всех, что я знаю, где я могу быть во всех четырех ипостасях одновременно.
Мы рассмеялись и выпили. Он окинул взглядом большой зал, и его глаза остановились на группе индийцев, сидевших недалеко от входа. Какое-то время он изучал их, потягивая алкоголь.
– Если ты решил остаться, то выбрал подходящий момент. Наступило время перемен. Больших перемен. Видишь вон тех людей, которые с таким аппетитом уплетают свою еду? Это сайники, наемники Шив Сены[30 — Шив Сена («Армия Шивы») – образованная в 1966 г. индуистская националистическая партия. Сайники – выпускники военных школ для малоимущих слоев населения, рассматриваются как опора националистического движения.]. «Люди, выполняющие грязную работу» – так, кажется, звучит ваш милый английский эвфемизм. А твой гид не рассказывал тебе о Сене?
– Да нет, не припоминаю такого.
– Думаю, с его стороны это не случайная забывчивость. Партия Шив Сена – это лицо Бомбея в будущем. А их методы и их politique[31 — Политика (фр.).], возможно, будущее всего человечества.
– А что у них за политика?
– Ее можно назвать этнической, региональной, языковой. Все люди, говорящие не на нашем языке, – наши враги, – ответил он, скривившись в брезгливой гримасе и загибая пальцы на левой руке. Руки были очень белые, мягкие, а под длинными ногтями по краям было черно от грязи. – Это политика запугивания. Ненавижу всякую политику, а пуще того политиков. Их религия – человеческая жадность. Это возмутительно. Взаимоотношения человека с его жадностью – это сугубо личное дело, ты согласен? На стороне Шив Сены полиция, потому что это партия Махараштры, а большинство рядовых полицейских родом из этого штата. В их руках почти все трущобы, а также профсоюзы и частично пресса. У них есть практически все – кроме денег. Правда, их поддерживают сахарные короли и некоторые торговцы, но настоящие деньги – те, что дает промышленность и черный рынок, – идут парсам и индусам из других городов, а также мусульманам, самым ненавистным из всех. Из-за этих денег и идет борьба, guerre еconomique[32 — Экономическая война (фр.).], а раса, язык, религия – это только болтовня. И каждый день они в большей или меньшей степени меняют лицо города. Даже имя сменили – называют его не Бомбей, а Мумбаи. Правда, пока они пользуются старыми городскими картами, но скоро выкинут и их. Ради достижения своей цели они пойдут на все, объединятся с кем угодно. Возможности у них есть. Очень богатые перспективы. Несколько месяцев назад сайники – разумеется, не те, что занимают видные посты, – заключили договор с Рафиком и его афганцами, а также с полицией. Получив деньги и обещание кое-каких привилегий, полиция прикрыла все опиумные курильни в городе, кроме нескольких. Десятки прекрасных салонов, посещавшихся поколениями добропорядочных граждан, за какую-нибудь неделю прекратили свое существование. Навсегда! Меня, в принципе, не интересует ни политический свинарник, ни тем более скотобойня большого бизнеса. Единственное, что превосходит политический бизнес в жестокости и цинизме, – это политика большого бизнеса. Но тут они сообща накинулись на традиционную торговлю опиумом, и это выводит меня из себя. Что такое Бомбей без его чанду[33 — Чанду – чай с опиумом (хинди).], опиума и опиумных притонов, позвольте спросить? Куда мы катимся? Это просто позор.
Я наблюдал за людьми, о которых говорил Дидье. Они с головой ушли в поглощение пищи. Стол их был уставлен блюдами с рисом, цыплятами и овощами. Все пятеро, не поднимая глаз от тарелок и не разговаривая, сосредоточенно двигали челюстями.
– Мне нравится твоя фраза о политическом бизнесе и о политике большого бизнеса, – усмехнулся я. – Прямо афоризм.
– Увы, друг мой, не могу претендовать на авторство. Я услышал эту фразу от Карлы и с тех пор повторяю ее. За мной числится много грехов – почти все, какие существуют, по правде говоря, – но чужие остроты я никогда не пытался присвоить.
– Это очень благородно с твоей стороны, – улыбнулся я.
– Ну, какие-то пределы все же надо знать, – рассудительно произнес Дидье. – В конце концов, цивилизация складывается из того, что мы запрещаем, а не из того, что мы допускаем.
Он помолчал, барабаня пальцами по холодному мрамору стола, затем взглянул на меня.
– Вот это уже мое, – заметил он, по-видимому задетый тем, что я не оценил его изречения.
Когда с моей стороны по-прежнему не последовало никакой реакции, он уточнил:
– Эту фразу насчет цивилизации я сам сочинил.
– Чертовски остроумная, – поспешил заверить его я.
– Ну, не преувеличивай, – скромно потупился он.
Наши взгляды встретились, и мы оба расхохотались.
– Прошу прощения за любопытство, но что за резон во всем этом для Рафика? – спросил я. – В закрытии опиумных притонов, я имею в виду. Чего ради он согласился в этом участвовать?
– Согласился? – нахмурился Дидье. – Да это была его собственная затея. На гараде, низкокачественном героине, можно зашибить куда больше бабок, чем на опиуме. Теперь всем, кто привык к чанду, пришлось перейти на гарад. А им владеет Рафик. Не всем, конечно. Одному человеку невозможно проконтролировать все потоки наркотиков, поступающих из Афганистана через Пакистан. Тем не менее ему принадлежит значительная часть низкокачественного героина, имеющегося в Бомбее. Это очень большие деньги, друг мой, очень большие деньги.
– А почему политики это поддерживают?
– Видишь ли, – опять принялся бормотать Дидье уголком рта, выдавая государственные секреты, – из Афганистана привозят не только гашиш с героином, но еще оружие, военную технику, взрывчатку. Все это используется, в частности, сикхами в Пенджабе и мусульманскими сепаратистами в Кашмире. В руках бедняков-мусульман, выступающих против Шив Сены, это оружие – большая сила. А если ты держишь под контролем наркотики, то можешь повлиять и на торговлю оружием. Поэтому партия Сены отчаянно борется за контроль над оружием, поступающим в их родной штат Махараштра. Это даст им деньги и власть. Посмотри на столик, что рядом с Рафиком и его головорезами. Видишь троих негров – двоих мужчин и женщину?
– Да. Я еще раньше обратил на нее внимание. Она очень красива.
Молодое женское лицо, с выдающимися скулами, плавно расширяющимся книзу носом и полными губами, было будто выточено из вулканической породы быстрым горным потоком. Прическа ее состояла из множества длинных тонких косичек, в которые были вплетены бусинки. Обмениваясь шутками с друзьями, она смеялась, обнажая крупные, безупречно белые зубы.
– Красива? Ну, не знаю… На мой взгляд, кто в Африке красив, так это мужчины, а женщины просто очень привлекательны. А вот в Европе наоборот. Карла очень красива, я никогда не встречал мужчину-европейца именно такой красоты. Но мы отвлеклись. Что я хотел сказать: эти негры – клиенты Рафика, нигерийцы. Рафик организовал в Лагосе концессию – или, правильнее, дочернюю компанию, которая является составной частью сделки с сайниками. У партии Сены есть свой человек на бомбейской таможне. Так что немалые суммы переходят из рук в руки. В аферу Рафика вовлечено несколько стран: Афганистан, Индия, Нигерия, Пакистан – и самые разные силы: полиция, таможенники, политики. И все это ради власти над нашим обожаемым проклятым Бомбеем. А началась эта заварушка с закрытия столь дорогих моему сердцу опиумных притонов. Просто трагедия.
– Да, я смотрю, этот Рафик – крутой парень, – произнес я довольно небрежным тоном – возможно, более небрежным, чем намеревался.
– Он афганец, а его страна воюет, дорогой мой. И поэтому он, как говорится, готов на все. Работает он на могущественную мафию Валидлаллы, а его ближайший дружок – Чуха, один из самых опасных людей в Бомбее. Но здесь, в этой части города, реальная власть принадлежит великому владыке Абделю Кадер-хану. Он поэт, философ и повелитель криминального мира. Его называют Кадербхай, то есть Кадер Старший Брат. В этом мире есть и другие бароны, у которых больше денег и больше пушек, чем у Кадербхая, – он человек строгих принципов и берется далеко не за всякое прибыльное дело. Но благодаря этим принципам он пользуется очень большим… даже не знаю, как это поточнее сказать по-английски… может быть, аморальным авторитетом. Никто в этом районе Бомбея не обладает такой сильной властью, как он. Многие считают его святым, наделенным сверхъестественными способностями. Я знаком с ним и уверяю тебя, он самый интересный человек из всех, кого я встречал. А это означает, прости за нескромность, что он и в самом деле исключительная личность, потому что мне доводилось встречаться со многими очень интересными людьми.
Дидье сделал паузу, чтобы придать весомость своим словам.
– Послушай, почему ты не пьешь? Терпеть не могу, когда люди тянут и тянут все тот же стакан. Это все равно что надевать гондон, когда онанируешь.
– Понимаешь… – рассмеялся я, – я жду Карлу. Она должна вернуться с минуты на минуту.
– Ах, Карлу… – протянул он ее имя с мягким урчанием. – А кстати, позволь спросить, каковы твои намерения в отношении нашей непостижимой Карлы?
– Что ты имеешь в виду?
– Хотя правильнее, пожалуй, было бы поинтересоваться, каковы ее намерения в отношении тебя, да?
Дидье вылил в свой стакан остатки из литровой бутылки и добавил сверху содовой. Он пил непрерывно уже больше часа. В глазах его набухли красные прожилки, как на кулаках у боксера, но взгляд был тверд, движения рук точны.
Неожиданно для самого себя я стал рассказывать ему о своем знакомстве с Карлой:
– Я встретил ее на улице, всего через несколько часов после того, как вылез из самолета. В ней есть что-то такое… Наверное, я и застрял-то в Бомбее в основном из-за нее. Из-за нее и Прабакера. Они оба понравились мне с первого взгляда. Для меня главное – люди. Я предпочел бы жестяной сарай с интересными людьми любому Тадж-Махалу – хоть я и не видел его еще.
– Он протекает, – пренебрежительно отмахнулся Дидье от этого архитектурного чуда. – Ты сказал, с интересными людьми. Карла – интересный человек?
Дидье расхохотался – пронзительно, заливисто, чуть ли не истерично. Затем он размашисто хлопнул меня по спине, расплескав содержимое своего стакана.
– Знаешь, Лин, с тобой можно иметь дело, честное слово! Правда, мое слово вряд ли имеет большой вес в обществе.
Он осушил стакан, со стуком опустил его на стол и вытер коротко подстриженные усики тыльной стороной ладони. Поймав мой непонимающий взгляд, он наклонился, почти вплотную приблизив свое лицо к моему:
– Позволь мне кое-что тебе объяснить. Посмотри вокруг. Сколько человек ты видишь в зале?
– Ну, может быть, шестьдесят или восемьдесят.
– Восемьдесят человек. Греки, немцы, итальянцы, французы, американцы. Туристы со всех концов света. И местные – индийцы, иранцы, арабы, афганцы, негры. Все они едят, пьют, болтают, смеются. Но сколько из них являются по-настоящему сильными личностями, осознают свое назначение, обладают энергией, которая необходима, чтобы руководить жизнью тысяч людей в том месте и в тот исторический момент, в котором они живут? Я тебе скажу сколько: четыре. Четыре человека в этом зале – действительно крупные фигуры, а остальные – такие же, каковы люди повсюду: бессильные, пребывающие в спячке, ничем не примечательные. А когда вернется Карла, к четырем сильным личностям прибавится пятая. Вот что такое Карла, которую ты назвал интересной. Но по выражению твоего лица, мой юный друг, я вижу, что ты ни хрена не понимаешь из того, что я говорю. Я скажу по-другому: Карла – очень хороший друг, но как враг она просто несравненна. Когда пытаешься оценить силу человека, нужно понять, что он собой представляет как друг и как враг. Так вот. Во всем этом городе нет никого, кто был бы более сильным и опасным врагом, чем Карла.
Он испытующе уставился прямо мне в глаза, словно выискивая что-то то в левом, то в правом.
– Ты же понимаешь, о какой силе я говорю. О настоящей. О той, которая может заставить людей сиять, как звезды, а может стереть в порошок. О силе, окруженной тайной, страшной тайной. О власти, позволяющей жить, не испытывая угрызений совести и сожалений. Вот у тебя, Лин, было в жизни что-нибудь такое, что не дает тебе покоя? Случалось тебе совершать поступки, о которых ты сожалеешь?
– Ну конечно…
– Да. Разумеется. И мне тоже… Я сожалею о многом, что я в свое время сделал… или не сделал. А Карла не сожалеет ни о чем. И потому она принадлежит к кучке избранных, обладающих властью над миром. У нее такое же сердце, как у них, а у нас с тобой – не такое. Но, прости, я уже немного пьян, а между тем мои итальянцы собираются уходить. Аджай же не будет ждать долго. Надо забрать свои скромные комиссионные, а потом уже можно будет напиться до победного конца.
Он откинулся на стуле, затем, опершись обеими пухлыми руками о крышку стола, тяжело поднялся и, не говоря больше ни слова, направился в сторону кухни. Я наблюдал за тем, как он лавирует между столиками пружинистой, раскачивающейся походкой опытного выпивохи. Его спортивный пиджак был помят – спинка стула, в которую он упирался, оставила на нем складки; брюки неряшливо обвисали. Лишь спустя какое-то время, познакомившись с Дидье ближе, я понял все значение того факта, что он прожил в Бомбее восемь лет в гуще страстей и преступлений, не нажив ни одного врага и не заняв ни одного доллара, а поначалу я считал его безнадежным пьяницей, хоть и приятным собеседником. В эту ошибку было нетрудно впасть, тем более что он сам всячески способствовал этому.
Первое правило любого подпольного бизнеса: не допускай, чтобы другие знали, что ты думаешь. Дидье дополнил это правило: необходимо знать, что другие думают о тебе. Неопрятная одежда, спутанные курчавые волосы, не расчесанные с тех пор, как они прижимались к подушке предыдущей ночью, даже его пристрастие к алкоголю, намеренно преувеличенное с целью создать видимость неизлечимой привычки, – все это были грани того образа, который он культивировал, разработав до мелочей, как актер свою роль. Он внушал окружающим, что он беспомощен и безвреден, потому что это было прямой противоположностью правде.
В тот момент, однако, я не успел привести в порядок свои мысли относительно личности Дидье и его умопомрачительных откровений, так как вернулась Карла и мы почти сразу же покинули ресторан. Мы проделали долгий путь пешком по набережной, которая проходит от Ворот в Индию до гостиницы Дома радио. Длинный широкий проспект был пуст. Справа от нас за цепочкой платанов тянулись отели и жилые дома. Кое-где в домах горел свет, представляя на обозрение уголок интерьера в обрамлении оконной рамы: скульптуру возле одной из стен, полку с книгами на другой, затянутое дымкой благовоний изображение какого-то индийского божества, украшенное цветами, и сбоку две тонких руки, сложенные в молитвенном заклинании.
Слева открывался простор самой большой в мире гавани; на темной воде поблескивали звездочки сигнальных огней нескольких сотен судов, стоявших на якоре. А еще дальше, на самом горизонте, дрожало сияние прожекторов, установленных на башнях морских нефтяных платформ. Луны на небе не было. Приближалась полночь, но воздух был таким же теплым, как в середине дня. Прилив Аравийского моря время от времени перебрасывал через невысокий каменный парапет клочья поднятой самумом водяной пыли, клубившейся над морской поверхностью до самых берегов Африки.
Мы шли не спеша. Я то и дело поднимал голову к небу, так плотно набитому звездами, что черная сеть ночи, казалось, вот-вот лопнет, не в силах удержать этот сверкающий улов. В заключении ты годами не видишь восходов и заходов солнца, ночного неба. Шестнадцать часов в сутки, всю вторую половину дня и до позднего утра, ты заперт в камере. Лишая тебя свободы, у тебя отнимают и солнце, и луну, и звезды. Тюрьма поистине не царство небесное, и хотя она не ад, в некоторых отношениях приближается к нему.
– Знаешь, ты иногда чересчур старательно демонстрируешь свое умение слушать собеседника.
– Что?.. О, прости, я задумался. – Я поспешил стряхнуть посторонние мысли. – Кстати, чтобы не забыть: вот деньги, которые мне дала Улла.
Она взяла сверток и запихнула в сумочку, не взглянув на него.
– Странно, в общем-то, если вдуматься. Улла сошлась с Моденой, чтобы освободиться от другого человека, который эксплуатировал ее, как рабыню. А теперь она стала в определенном смысле рабыней Модены. Но она его любит и потому стыдится, что ей приходится утаивать от него часть заработка.
– Некоторые люди могут жить только в качестве чьего-то раба или хозяина.
– Если бы только некоторые! – бросила Карла с неожиданной и непонятной горечью. – Вот ты говорил с Дидье о свободе, и он спросил тебя: «свобода делать что?» А ты ответил: «свобода сказать „нет“». Забавно, но я подумала, что гораздо важнее иметь возможность сказать «да».
– Кстати, о Дидье, – произнес я небрежным тоном, стремясь отвлечь ее от темы, которая была для нее, по-видимому, тягостна. – Я довольно долго говорил с ним сегодня, пока ждал тебя.
– Думаю, говорил в основном Дидье.
– Ну да. Но я с удовольствием слушал его. У нас с ним еще не было такого интересного разговора.
– Что он тебе рассказал? – резко спросила Карла.
Ее вопрос немного удивил меня. Можно было подумать, есть что-то такое, о чем Дидье не должен был рассказывать мне.
– Он рассказал мне кое-что о посетителях «Леопольда» – афганцах, иранцах и этих… сайниках Шивы, или как там они называются, а также о главарях местной мафии.
Карла скептически фыркнула:
– Не стоит слишком серьезно относиться к тому, что говорит Дидье, особенно если он говорит это серьезным тоном. Он часто судит очень поверхностно. Я однажды сказала ему, что от него не услышишь ничего, кроме недвусмысленностей, и, как ни странно, это ему понравилось. В чем его не упрекнешь, так это в чрезмерной обидчивости.
– Мне казалось, вы с ним друзья, – заметил я, решив, что не стоит передавать Карле того, что Дидье говорил о ней.
– Друзья… Знаешь, иногда я задаю себе вопрос: «А существует ли дружба на самом деле?» Мы знаем друг друга уже много лет и даже жили вместе когда-то. Он тебе об этом не рассказывал?
– Нет.
– Так вот. Жили целый год, когда я только-только приехала в Бомбей. Мы снимали на двоих совершенно невообразимую полуразвалившуюся квартирку в районе порта. Дом буквально рассыпался на глазах. Каждое утро мы смывали с лица мел, оседавший с потолка, а в передней находили вывалившиеся куски штукатурки, кирпичей, дерева и прочих материалов. Пару лет назад во время муссонного шквала здание развалилось-таки и погибли несколько человек. Иногда я забредаю туда и любуюсь небом сквозь дыру в том месте, где была моя спальня. Наверное, можно сказать, что мы с Дидье близки. Но друзья ли мы? Дружба – это своего рода алгебраическое уравнение, которое никому не удается решить. Порой, когда у меня особенно плохое настроение, мне кажется, что друг – это любой, кого ты не презираешь.
Она говорила вполне серьезно. Тем не менее я позволил себе усмехнуться:
– Мне кажется, ты сгущаешь краски.
Она посмотрела на меня, сердито нахмурившись, но затем тоже рассмеялась:
– Возможно. Я устала. Уже несколько ночей не высыпаюсь. И я, пожалуй, была несправедлива к Дидье. Просто иногда он очень меня раздражает. А обо мне он говорил что-нибудь?
– Он сказал, что, по его мнению, ты красива.
– Он так сказал?
– Да. Мы сравнивали красоту людей белой и черной расы, и он сказал: «Карла очень красива».
Карла была польщена и удивленно подняла брови:
– Это очень ценный комплимент, несмотря даже на то, что Дидье ужасный лгун.
– Мне он нравится.
– Чем? – сразу спросила она.
– Ну… не знаю даже. Возможно, своим профессионализмом. Меня привлекают люди, знающие свое дело. И в нем есть какая-то печаль, которая… которую я понимаю. Он напоминает мне кое-кого из моих друзей.
– По крайней мере, он не скрывает своих пороков, – заявила Карла, и я вдруг вспомнил, что Дидье говорил о Карле и ее силе, окутанной тайной. – Пожалуй, мы сходимся с ним прежде всего в том, что оба ненавидим ханжей. Ханжество – это разновидность жестокости. А Дидье не жестокий. Он сумасброден, но не жесток. Теперь он немного угомонился, а было время, когда его необузданные любовные приключения производили фурор в городе – по крайней мере, среди иностранцев, живущих здесь. Однажды его ревнивый любовник, молодой марокканец, гнался за ним с саблей по всей Козуэй. При этом оба были в чем мать родила – очень большой грех в Бомбее. А уж что за зрелище представлял собой при этом Дидье – можешь вообразить. В таком виде он ворвался в полицейский участок Колабы, и они спасли его. Индийцы, вообще-то, очень консервативны в этом отношении, но у Дидье правило – никогда не связываться с местными, и поэтому ему многое прощается. Множество иностранцев приезжают сюда только для того, чтобы завести интрижку с каким-нибудь индийским мальчиком. Их Дидье презирает. Он специализируется по иностранцам. Я не удивилась бы, если бы оказалось, что именно по этой причине он так разоткровенничался с тобой сегодня – пытался произвести на тебя впечатление своим знанием темных сторон бомбейской жизни. О! Привет, киска! Откуда ты взялся?
Худой серый кот, забравшись на парапет, доедал остатки пищи из брошенного кем-то пакета. Он испуганно припал к парапету и оскалился, рыча и жалобно подвывая одновременно. Тем не менее он не убежал, когда Карла погладила его, и вернулся к прерванной трапезе. Это было истощенное и ободранное животное. Одно ухо было кем-то сжевано и выглядело как розовый бутон, на боках и спине виднелись проплешины с незажившими болячками. Я был удивлен тем, что это дикое потрепанное создание позволило Карле погладить себя, и еще больше тем, что у нее возникло такое желание. И уж совсем поразительно было, с каким аппетитом кот пожирал рис с овощами, приправленный очень острым чили.
– Ты только посмотри на него! – ворковала Карла. – Какой красавец!
– Ну уж…
– Но разве тебя не восхищает его храбрость, стремление выжить во что бы то ни стало?
– Боюсь, я не очень люблю котов. Вот собаки – другое дело.
– Нет, ты просто обязан любить котов! Когда все люди будут такими, как коты в два часа дня, мир достигнет совершенства.
Я расхохотался:
– Тебе никогда не говорили, что у тебя весьма оригинальный способ выражаться?
– Что ты хочешь этим сказать? – резко повернулась она ко мне.
Даже в слабом свете уличных фонарей было заметно, что лицо ее покраснело и было чуть ли не сердитым. Я тогда еще не знал, что английский язык был ее страстью, – она изучала его, совершенствовала, упражнялась в письме и в сочинении остроумных афоризмов, которые затем вставляла в свою речь.
– Только то, что сказал. Ты употребляешь очень неординарные фразы и обороты. И они мне нравятся. Очень нравятся. Например, вчера, когда мы говорили о том, что такое истина, Истина с большой буквы, и может ли что-нибудь быть абсолютно истинным. Каждый высказал свою точку зрения – Дидье, Улла, Маурицио, даже Модена. А ты сказала: «Истина – это задира, который ко всем пристает, и все притворяются, что им это нравится». Я чуть не отпал. Ты где-то прочитала эту фразу или она из какой-то пьесы, кинофильма?
– Нет, я придумала ее сама.
– Ну вот видишь, это я и имел в виду. Вряд ли я способен запомнить и точно воспроизвести все, что говорят другие, но этот твой афоризм я наверняка не забуду.
– Ты с этим согласен?
– С тем, что истина – задира и все притворяются, что она им нравится?
– Да.
– Да нет, совсем не согласен. Но оригинальность идеи и то, как ты ее выразила, меня восхищают.
На губах ее появилась полуулыбка, от которой я не мог отвести глаз. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Она уже хотела отвернуться, и я поспешно спросил, чтобы помешать этому:
– А чем тебе нравится Биарриц?
– Биарриц?
– На днях, позавчера, ты сказала, что Биарриц – одно из твоих любимых мест. Я никогда не был в Биаррице и не имею о нем никакого представления, но мне любопытно, чем он тебя так привлекает.
Она улыбнулась и сморщила нос – не то с удовольствием, не то с досадой.
– Ну что ж, раз ты это запомнил, надо, наверное, тебе рассказать. Как бы это объяснить?.. Думаю, дело прежде всего в океане, в Атлантике. Я особенно люблю Биарриц зимой, когда нет туристов и море принимает такой устрашающий вид, что буквально превращает людей в камни. Они стоят на пустынном берегу, застыв, как каменные изваяния, разбросанные между береговыми скалами, и неотрывно глядят в океанский простор, пригвожденные к месту ужасом, который внушает им океан. Он совсем не похож на другие океаны – ни на теплый Индийский, ни на Тихий. Зимой Атлантический океан безжалостен и жесток. Ты физически ощущаешь, как он призывает тебя, хочет утянуть в глубину. Он так прекрасен, что я не могла удержаться от слез, когда впервые увидела его. И мне хотелось поддаться ему, погрузиться в эти большие сердитые волны. Просто жуть. А люди в Биаррице, я думаю, самые спокойные и терпеливые во всей Европе. Ничто не может вывести их из себя. Это даже немного странно – в большинстве курортных городов жители раздражены и сердиты, море же спокойно. А в Биаррице наоборот.
– Ты не собираешься когда-нибудь вернуться туда – чтобы поселиться?
– Нет, – сразу же ответила она. – Если уж я и уеду когда-нибудь из Бомбея насовсем, то только в Штаты. Там умерли мои родители, там я выросла. И мне хотелось бы вернуться туда когда-нибудь. Пожалуй, Америку я люблю больше всех остальных стран. В людях там, да и во всем, чувствуется какая-то уверенность, открытость и… смелость. Во мне мало американского – по крайней мере, мне так кажется, – но с американцами мне… легко – ну, ты понимаешь, что я хочу сказать, – легче, чем с кем-нибудь еще.
– Расскажи мне о других, – попросил я, чтобы она не замолчала.
– О других? – переспросила Карла, неожиданно нахмурившись.
– Ну да, о компании из «Леопольда». О Летиции, например. Как ты с ней познакомилась?
Она расслабилась, взгляд ее блуждал где-то среди теней на противоположной стороне улицы. Затем в задумчивости она подняла голову к ночному небу. Бледно-голубой свет уличных фонарей таял на ее губах и белках ее больших глаз.
– Летти жила какое-то время в Гоа, – начала Карла. В голосе ее чувствовалась теплота. – Она приехала в Индию с той же двоякой целью, с какой все обычно приезжают, – найти подходящую компанию и духовное обновление. Компанию она нашла, и не одну, и они вполне подходили ей, я думаю. Но вот с духовным обновлением ей не повезло. Она дважды в течение года уезжала в Лондон – и возвращалась обратно в поисках обновления. Это для нее что-то вроде духовного паломничества. Она довольно резко разговаривает, но духовно она, пожалуй, богаче всех нас.
– А на какие средства она живет? Я спрашиваю не из праздного любопытства; я уже говорил, меня интересует, как людям удается устроиться здесь – иностранцам, я имею в виду.
– Она знает толк в драгоценных камнях и ювелирных изделиях и помогает иностранным покупателям, получая за это комиссионные. Эту работу ей нашел Дидье. У него есть знакомства во всех бомбейских кругах.
– Дидье? – Я был порядком удивлен. – Мне показалось, что они ненавидят друг друга, – ну, не то что ненавидят по-настоящему, а просто терпеть друг друга не могут.
– Между ними все время происходят стычки, но на самом деле они, несомненно, друзья. Если бы с одним из них произошло несчастье, для другого это было бы ударом.
– А Маурицио? – спросил я, стараясь, чтобы это прозвучало бесстрастно. Высокий итальянец был очень красив и самоуверен; мне казалось, что он довольно близок с Карлой, и я завидовал ему. – Что ты можешь рассказать о его похождениях?
– Я не знаю всех его похождений, – ответила она, опять нахмурившись. – Знаю только, что родители его умерли, оставив ему кучу денег. Он быстренько их истратил, успев развить в себе своего рода талант тратить деньги.
– Чужие? – спросил я.
Очевидно, в моем вопросе чувствовалось желание получить утвердительный ответ, потому что Карла вместо этого спросила:
– Ты знаешь анекдот про скорпиона и лягушку? Про то, как лягушка соглашается перевезти скорпиона через реку, взяв с него обещание не жалить ее?
– Ну да. На середине реки скорпион жалит-таки лягушку, и, когда она спрашивает, зачем он это сделал, – ведь теперь они оба погибнут, – он отвечает, пожав плечами: «Уж такое я дерьмо. Против собственной природы не попрешь».
– Вот-вот, – кивнула Карла со вздохом. Складка между ее бровями постепенно сгладилась. – Так это про Маурицио. Но когда ты знаешь об этом, то с ним можно иметь дело – просто ты не соглашаешься перевозить его через реку. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду.
Я сидел в тюрьме и прекрасно понимал, что она имеет в виду. Кивнув, я спросил ее об Улле и Модене.
– Я люблю Уллу, – ответила она, опять улыбнувшись. – Конечно, она без царя в голове и на нее нельзя положиться, но она мне симпатична. Она жила в Германии, в богатой семье. В юности стала баловаться героином и втянулась. Ее выгнали из дому без всяких средств, и она уехала в Индию вместе с приятелем, таким же наркоманом, к тому же подонком. Он пристроил ее на работу в бордель. Жуткое место. Она его любила и пошла на это ради него. Для него она была готова на все. Такими бывают некоторые женщины. Такой бывает любовь. Да по большей части она именно такой и бывает, как посмотришь вокруг. Твое сердце становится похожим на перегруженную спасательную шлюпку. Чтобы не утонуть, ты выбрасываешь за борт свою гордость и самоуважение, свою независимость. А спустя какое-то время ты начинаешь выбрасывать людей – своих друзей и всех прочих, кого ты знал годами. Но и это не спасает. Шлюпка погружается все глубже, и ты знаешь, что скоро она утонет и ты вместе с ней. Это происходило у меня на глазах с очень многими девушками. Наверное, поэтому я и думать о любви не хочу.
Трудно было понять, говорит ли она отвлеченно о своем душевном состоянии или намекает на наши отношения. В любом случае ее слова были удручающими.
– А что ты скажешь о Кавите? Как она вписывается в эту компанию?
– Кавита – это нечто особенное. Она свободный художник, точнее, писатель. Хочет стать журналисткой, и я думаю, у нее это получится. По крайней мере, я надеюсь на это. Она очень способная, честная, с характером. И к тому же она красива. Согласись, она великолепна.
– Охотно соглашаюсь, – отозвался я, вспомнив ее глаза медового цвета, полные, красиво очерченные губы и длинные выразительные пальцы. – Она очень привлекательна. Но, на мой взгляд, они все привлекательны. Даже в Дидье, несмотря на некоторую помятость, есть что-то байроническое. Летти тоже очень симпатична. Ее глаза всегда смеются, и они совсем как голубой лед, да? Улла, с ее большими глазами и большим ртом на круглом лице, выглядит как куколка. Но это всего лишь хорошенькое кукольное личико. Маурицио красив, как модель с обложки журнала, Модена тоже красив, но по-другому – похож на какого-нибудь тореадора. А ты… ты самая красивая женщина из всех, кого я когда-либо встречал.
Ну вот, я сказал это. Я был потрясен тем, что это признание вырвалось у меня, и в то же время спрашивал себя, поймет ли она, разглядит ли она за всеми моими словами о ее красоте и красоте ее друзей ту боль, которая породила эти слова и которую испытывает всякий некрасивый влюбленный мужчина в те минуты, когда он способен трезво мыслить.
Она рассмеялась – громким счастливым смехом – и, импульсивно схватив меня за руку, потянула вперед по тротуару. И в тот же момент, как продолжение ее заливистого смеха, послышался какой-то стук и дребезжание: нищий инвалид, катившийся на деревянной подставке с колесиками из шарикоподшипников, свернул с пешеходной дорожки, чтобы пересечь улицу. Отталкиваясь руками, он достиг середины пустынного проспекта, где проделал эффектный пируэт и остановился. Подогнутые ножки, тонкие, как у богомола, лежали на этой деревянной подставке величиной со сложенный газетный лист. На нем была надета школьная форма – шорты цвета хаки и зеленовато-голубая рубашка. Хотя ему явно стукнуло двадцать, форма была ему велика.
Карла окликнула его по имени, и мы остановились напротив. Они с Карлой принялись болтать на хинди, а я с удивлением разглядывал руки молодого человека – они были огромны, ладонь по ширине была не меньше его лица. Даже на расстоянии в десять метров были заметны толстые подушечки на его пальцах и всей ладони – как на медвежьих лапах.
– Спокойной ночи! – крикнул он минуту спустя по-английски и прикоснулся правой рукой сначала ко лбу, а потом к сердцу – жест высшей учтивости в Индии; совершив еще один лихой поворот, он покатился, набирая скорость, вниз по улице в сторону Ворот в Индию.
Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся из виду, затем Карла потянула меня за руку, приглашая продолжить путь. Я подчинился, отдавшись во власть ее мелодичного голоса и тихого бормотания морских волн, черного ночного неба и еще более густой черноты ее волос, запаха моря, спящих камней и деревьев и свежего благоухания ее теплой кожи. Я отдался во власть судьбы, связавшей мою жизнь с ее жизнью и с жизнью города. Я проводил ее до дому. Попрощался с ней. Тихо напевая, я шел к своей гостинице сквозь мечтательную дремоту улиц.
Глава 3
– Так ты говоришь, что на этот раз покажешь мне что-то такое… ну, настоящее?
– Да, баба, там будет много настоящего, – заверил меня Прабакер, – и чего-то такого там тоже очень много. На этот раз ты увидишь настоящий город. Я никогда обычно не вожу туристов в эти места. Им это не нравится, а мне не нравится, что им это не нравится. А иногда может быть так, что им это слишком сильно нравится, и тогда мне нравится это еще меньше, не прав ли я? Должна быть хорошая голова, чтобы нравились эти вещи, и должно быть хорошее сердце, чтобы они не нравились слишком сильно. Как у тебя, Линбаба. Ты мой хороший друг. Я знал это очень хорошо уже в тот первый день, когда мы пили виски в твоем номере. И теперь со своей хорошей головой и хорошим сердцем ты увидишь весь настоящий Бомбей.
Мы ехали в такси по проспекту Махатмы Ганди мимо фонтана Флоры и вокзала Виктории. В утренние часы поток машин, текущий по этому каменному каньону, разбухал за счет большого количества повозок, на которых индийцы бегом развозили завтраки. Они собирали еду, приготовленную во множестве домов и квартир по всему городу, складывали ее в жестяные судки, называемые джальпанами или тиффинами (завтраками). Огромные подносы с этими судками грузились на длинные деревянные тележки, в них впрягались по шесть-семь человек и, лавируя среди металлического нагромождения автобусов, грузовиков, мотороллеров и автомобилей, доставляли завтраки в городские учреждения и на предприятия. Как именно это все производилось, знали разве что люди, организовавшие эту службу, – как удавалось полуграмотным индийцам разобраться в сложной системе цифр и специальных разноцветных значков, которыми были помечены судки, как день за днем они перевозили сотни тысяч этих идентичных контейнеров на примитивных колымагах, оси которых были смазаны их по`том, и находили среди миллионов жителей именно того человека, кому они предназначались, и как можно было выполнять эту работу за какие-то центы, а отнюдь не за доллары. По каждой улице города и сквозь каждое бьющееся сердце невидимой рекой текла какая-то таинственная, магическая энергия, и никакая деятельность в Бомбее тех времен – от почтовой службы до уличного попрошайничества – не осуществлялась без участия этого волшебства, связывавшего обыкновенное с невозможным.
– Какой номер этого автобуса, Линбаба? Ну-ка, скажи скорее!
– Секундочку. – Высунувшись из полуоткрытого окна такси, я пытался разобрать причудливые завитушки на корпусе красного двухэтажного автобуса, остановившегося напротив нас. – Вроде бы сто четыре?
– Очень замечательно! Ты хорошо выучил свои цифры на хинди. Теперь у тебя не будет проблем читать номера автобусов и поездов, и карты меню, и цену наркотиков, и другие прекрасные вещи. Теперь скажи мне, что такое алу палак?
– Алу палак – это картофель со шпинатом.
– Правильно. Только ты не сказал, что это также хорошая еда. Я очень люблю алу палак. А что такое фул гоби и бхинди?
– Это… А-а, это цветная капуста с окрой.
– Верно. И опять ты не сказал «хорошая еда». Что такое беган масала?
– Ну, это баклажан с приправами.
– Опять верно. Но разве ты не любишь есть баклажаны?
– Люблю-люблю! Баклажан – это тоже хорошая еда.
– На самом деле не очень хорошая. Я не люблю баклажаны, – заметил Прабакер, сморщив нос. – А вот скажи, что я теперь говорю: чера, мун, дил?
– Так… не подсказывай… Лицо, рот и сердце. Правильно?
– Очень правильно, без проблем. Я наблюдал, как замечательно ты ешь свою пищу рукой, в лучшем индийском стиле. И как ты учишься просить разные вещи – сколько того, сколько этого, дайте мне две чашки чая, я хочу немного гашиша – и говоришь людям только на хинди. Я видел это все. И я думаю, что ты мой лучший ученик, Линбаба. А я твой лучший учитель, не прав ли я?
– Прав, прав, – рассмеялся я. – Эй, осторожнее!
Мой возглас вернул к жизни нашего водителя, и он успел в последний момент избежать столкновения с буйволовой упряжкой, которая решила сделать разворот прямо перед нами. Дюжий смуглый индиец с ощетинившимися усами, он был, похоже, взбешен той наглостью, с какой я вмешался в его работу, чтобы спасти нашу жизнь. Сразу после того, как мы сели в его машину, водитель пристроил зеркальце над собой таким образом, что в нем не отражалось ничего, кроме моего лица. Теперь, после несостоявшегося столкновения, он бросил на меня разъяренный взгляд и разразился градом ругательств на хинди. Автомобиль он вел так, будто ограбил банк и спасался от погони, и резко крутил баранку влево и вправо, обгоняя другие машины. Его злобная агрессивность распространялась на всех окружающих. Он почти вплотную сближался с автомобилями, едущими впереди на более медленной скорости, и, оглушительно сигналя, проносился мимо, едва не спихивая их с проезжей части. Когда люди сворачивали в сторону, чтобы пропустить нас, наш водитель какое-то время ехал рядом, осыпая их оскорблениями. Затем, наметив впереди очередную жертву, он гнался за ней, чтобы повторить маневр. Время от времени он, открыв дверцу, высовывался на несколько секунд наружу и выплевывал пережеванный пан, не обращая никакого внимания на то, что делается перед нашей грохочущей адской машиной.
– Этот водитель – просто псих, – пробормотал я Прабакеру.
– Вождение у него не очень хорошее, – согласился Прабакер, вцепившийся обеими руками в спинку переднего сиденья, – но зато плевание и поношение замечательные.
– Ради всего святого, скажи ему, чтобы он остановился! – заорал я, когда водитель, прибавив газу, ринулся в гущу транспорта, креня машину влево и вправо при обгоне. – Он отправит нас прямо на кладбище!
– Банд каро! – крикнул Прабакер. – Остановись!
Он с чувством прибавил выразительное ругательство, но это лишь подстегнуло водителя. Отжав педаль сцепления до предела, он обернулся к нам, оскалив зубы и сверкая огромными черными глазами, в которых клокотало возмущение.
– Аррей![34 — Эй; ой! (хинди)] – завопил Прабакер, указывая вытянутой рукой вперед.
Но было слишком поздно. Водитель резко крутанулся обратно и, сжав в руках баранку, ударил по тормозам. Секунду мы продолжали скользить по инерции… затем еще и еще одну… Было слышно, как водитель утробно выдохнул воздух с таким причмокиванием, какое издает глинистое речное дно, когда отрываешь присосавшийся к нему камень. Затем мы с грохотом и треском врезались в автомобиль, притормозивший перед нами для поворота. Нас бросило на спинки передних сидений, и тут же раздались один за другим еще два громоподобных удара – на нас налетели две машины, следовавшие позади.
Звон битого стекла, посыпавшегося на мостовую вместе с осколками хромированной отделки, прозвучал во внезапно наступившей тишине как ломкие металлические аплодисменты. Во время столкновения я ударился головой о дверцу и чувствовал, что из рассеченной брови сочится кровь, но все остальное было вроде бы цело. Я кое-как взобрался обратно на сиденье, и Прабакер тут же кинулся ощупывать меня:
– Лин, у тебя ничего не сломалось? Ты в порядке?
– В порядке, в порядке.
– Ты уверен? Ты точно не навредил себе?
– Нет-нет. Но знаешь, Прабу, – нервно рассмеялся я, испытывая облегчение после пережитого, – каким бы замечательным ни было плевание этого водителя, чаевых от меня он не получит. Ты сам-то цел?
– Нам надо скорее вылезать отсюда! – чуть ли не истерически закричал он, вместо ответа. – Быстро-быстро! Сейчас же!
Дверцу с его стороны заклинило, и, как он ни бился о нее плечом, она не желала открываться. Прабакер потянулся было к дверной ручке с моей стороны, но сразу понял, что это бесполезно: дверца была заблокирована машиной, которая столкнулась с нашей. Он посмотрел на меня, и в его больших выпученных зрачках с белым ободком был такой ужас, что у меня внутри все похолодело. Он опять остервенело набросился на свою дверцу.
Из вязкой мути моих разжиженных мозгов выплыла четкая и недвусмысленная мысль: «ПОЖАР. Он боится пожара». Глядя, как Прабакер даже разевает рот от ужаса, я преисполнился уверенности, что машина вот-вот загорится. А мы замурованы в ней. Заднее окошко во всех бомбейских такси приоткрывается всего на несколько сантиметров, дверцы заклинило, окна не открываются, наш автомобиль того и гляди взорвется, а мы не можем выбраться. Сгорим заживо!
Я посмотрел на водителя, который неуклюже скособочился на своем сиденье, зажатый между дверцей и рулевым колесом. Он не двигался, но стонал. Его согнутая спина с выпирающими позвонками приподнималась и опадала при каждом медленном судорожном вздохе.
Возле окон нашего такси появились лица, послышались возбужденные голоса. Прабакер вертел головой, в панике глядя на людей, лицо его было сведено судорогой страха. Внезапно он перебрался через спинку переднего сиденья и с усилием открыл левую дверцу. Быстро обернувшись ко мне, он схватил меня под мышки и изо всех сил (которых у него оказалось на удивление много) принялся перетаскивать меня через разделявшую нас преграду:
– Сюда, Лин! Лезь сюда! Скорее, скорее!
Я перелез вслед за ним через спинку. Прабакер выбрался наружу, расталкивая столпившихся. Я попытался было освободить тело водителя от прижимавшего его руля, но тут Прабакер вцепился в меня, как хищник в добычу, и, ухватив одной рукой за воротник, а другой прямо за складку кожи на спине, потащил на себя.
– Не трогай его, Лин! – взвыл он. – Не трогай его! Брось его и вылезай сразу же. Скорее!
Он буквально выволок меня из машины сквозь людское заграждение, образовавшееся вокруг нас. Мы уселись в сторонке возле ограды из чугунных копий, над которой нависала бахрома листвы боярышника, и проверили, все ли у нас цело. Порез над моим правым глазом был не так глубок, как я думал. Кровь больше не текла, выделялась только сукровица. Побаливало еще в нескольких местах, но не настолько, чтобы всерьез об этом задумываться. Прабакер прижимал к груди руку – ту самую, которая со столь неодолимой силой вытянула меня из автомобиля. Очевидно, она была повреждена, возле локтя уже виднелась большая припухлость. Было ясно, что нормальный вид рука примет не скоро, но кости вроде бы не были сломаны.
– Похоже, зря ты так паниковал, Прабу, – пробормотал я, улыбаясь и давая ему прикурить.
– Зря паниковал?
– Ну да. Ты в таком страхе тащил меня из машины, и я поверил, что она вот-вот взорвется, но, как видишь, пока ничего не произошло.
– Ах вот что, – протянул он, глядя в пространство перед собой. – Ты думаешь, что я испугался взрыва? Да, испугался, но только не в машине, Лин, а в людях. Посмотри на них, посмотри, что сейчас будет.
Мы поднялись на ноги, чувствуя такую боль в шее и плечах, будто их исхлестали плетьми, и воззрились на четыре покореженных автомобиля метрах в десяти от нас. Вокруг них собралось человек тридцать. Некоторые из них помогали водителям и пассажирам выбраться из машин, остальные, сбившись в кучки, возбужденно размахивали руками и кричали. Люди продолжали сбегаться к месту аварии со всех сторон. К толпе присоединились и водители машин, которые не могли проехать из-за затора. Вскоре здесь было уже пятьдесят, восемьдесят, сто человек.
В центре внимания был хозяин автомобиля, в который мы на полном ходу врезались. Он стоял возле нашего такси и рычал от ярости. Это был человек лет сорока пяти, с полными плечами, в сером костюме «сафари», наверняка сшитом на заказ, дабы вместить его непомерный живот. Его редеющие волосы сбились набок, нагрудный карман пиджака был оторван, на штанине зияла дыра, не хватало одной из сандалий. Взъерошенный вид мужчины в сочетании с выразительной жестикуляцией и непрерывным потоком брани, казалось, завораживал публику и представлял для нее даже более увлекательное зрелище, чем авария. На руке у мужчины был глубокий порез, и, в то время как трагизм происшедшего постепенно заставил толпу затихнуть, он продолжал кричать и, поднеся руку к лицу, измазал кровью и его, и свой серый костюм.
В этот момент несколько человек вынесли на свободное пространство рядом с ним пострадавшую женщину и, разостлав на земле кусок ткани, положили ее. Они крикнули что-то в толпу, и тут же индиец, на котором не было ничего, кроме майки и узкой набедренной повязки, вывез деревянную тележку. Женщину подняли на тележку, обернув ее ноги красным сари. Возможно, это была жена разъяренного водителя – мы этого не знали, – но только он сразу впал в настоящую истерику. Он схватил женщину за плечи и стал трясти ее, а затем дергать за волосы; обратившись к толпе, он театрально раскидывал руки и колотил себя по измазанному кровью лицу. Его жесты были неестественными и преувеличенными, как у актера в пантомиме или немом кино, и казались нелепыми и смешными. Но травмы, полученные людьми, были вполне реальны, как и угрозы, раздававшиеся в растущей толпе.
Как только пострадавшую увезли на импровизированной каталке, мужчина ринулся к нашему такси и распахнул дверцу. Толпа действовала как один слаженный организм. Они в один миг выволокли раненого, почти потерявшего сознание водителя из машины и швырнули его на капот. Он поднял было руки, прося пощады, но сразу десять, двадцать, сорок человек принялись избивать его. Удары посыпались на его лицо, грудь, живот, пах. Ногти рвали и царапали, искромсав его рубашку в клочки и разодрав ему рот с одной стороны чуть ли не до уха.
На это ушли считаные секунды. Глядя на это побоище, я уговаривал себя, что все происходит слишком быстро, чтобы я, сам еще не оправившийся от шока, успел что-либо предпринять. Мы часто называем человека трусом, когда он просто застигнут врасплох, а проявленная храбрость, как правило, означает всего лишь, что он был подготовлен. Кроме того, я, возможно, сделал бы хоть что-нибудь, будь мы в Австралии. «Это не твоя страна, – говорил я себе, – здесь свои нравы и обычаи…»
Но в глубине моего сознания пряталась еще одна мысль, ставшая мне ясной лишь значительно позже: этот человек был грубым, задиристым идиотом, из-за чьей безответственной самоуверенности мы с Прабакером могли погибнуть. У меня в сердце застряла заноза озлобленности, и поэтому я тоже в какой-то степени был соучастником избиения. Как минимум один крик, один удар или пинок можно было отнести на мой счет. Чувствуя себя беспомощным, стыдясь и страшась, я не сделал ничего.
– Нам надо сделать что-нибудь… – все, что я смог пробормотать.
– Ничего не надо сделать, баба, – отвечал Прабакер. – Там и без нас все делают.
– Да нет, я имею в виду… может быть, надо ему помочь?
– Этому парню уже не помочь, – вздохнул он. – Теперь ты сам видишь, Лин. Автомобильная авария в Бомбее – это очень плохое дело. Надо очень, очень быстро вылезать из машины или такси, в котором ты сидишь. У публики нет терпения к таким случаям. Смотри, для этого парня уже все кончено.
Расправа была быстрой и жестокой. Из многочисленных ран на лице и на теле водителя струилась кровь. Перекрывая вой толпы, прозвучала чья-то команда, и человека подняли на плечи и поволокли прочь. Ноги его были вытянуты, руки разведены под прямым углом к туловищу; в таком положении его удерживали десятки рук. Голова несчастного откинулась назад, с нее от нижней челюсти до уха свисал выдранный лоскут теплой влажной кожи. В открытых глазах, видевших мир вверх ногами, стоял страх, смешанный с безумной надеждой. Машины на улице разъехались в стороны, давая проход толпе, и человек медленно исчез вдали, распятый на людских плечах и руках.
– Давай, Лин, пошли. У тебя все хорошо?
– Да… Со мной все в порядке, – пробормотал я, с усилием тронувшись вслед за ним.
Моя былая уверенность в себе растаяла и стекла куда-то в область коленей, мышцы с костями превратились в какую-то аморфную массу. Ноги налились свинцом, их приходилось буквально волочить. Меня потрясло не само насилие. В тюрьме мне приходилось видеть расправы и похуже, совершаемые почти без всякого повода. Просто слишком уж неожиданно рухнули те искусственные подпорки, на которых я поспешил водрузить свое мнимое благополучие. Образ города, сложившийся у меня в течение последних недель, с его базарами, храмами, ресторанами, новыми друзьями, сгорел дотла в огне человеческой ярости.
– А что они сделают с ним? – спросил я.
– Отнесут в полицейский участок, я думаю так. Позади Кроуфордского рынка есть полицейский участок этого района. Может быть, ему повезет и его донесут туда живым. А может быть, нет. У этого парня очень быстрая карма.
– Тебе приходилось видеть такое раньше?
– О, много раз, Линбаба. Иногда я вожу такси моего двоюродного брата Шанту и вижу очень много сердитых публик. Поэтому я так испугался за тебя и за свое доброчувствие тоже.
– Но почему они так неистовствовали?
– Этого никто не знает, Лин, – пожал он плечами, убыстряя шаг.
– Подожди, – остановил я его, положив руку ему на плечо. – Куда ты так спешишь?
– Как – куда? У нас ведь экскурсия.
– Я думал, что теперь ты… отменишь сегодняшнюю экскурсию.
– Почему отменишь? Мы же должны посмотреть что-то такое. Так что давай пойдем, на?
– А как же твоя рука? Ты не хочешь показать ее врачу?
– Рука без проблем, Лин. В конце экскурсии у нас будет виски в одном очень ужасном месте, которое я знаю. Это будет очень хорошее лекарство. Пошли, баба.
– Ну ладно, раз ты так считаешь. Но мы же, по-моему, ехали в противоположном направлении?
– Да, и продолжаем ехать в противоположном направлении, – отвечал он несколько нетерпеливо. – Но сначала нам надо пойти только в этом направлении! Там на вокзале есть телефон. Я должен сделать звонок своему двоюродному брату, который сейчас работает в ресторане «Солнечный»: он моет посуду. Он хочет найти работу водителя такси для своего брата Суреша, и я должен сказать ему номер такси и имя хозяина того водителя, которого унесли. Раз его унесли, то его хозяину теперь будет нужен новый водитель, и мы должны торопиться, чтобы поймать такой хороший шанс, не прав ли я?
Прабакер позвонил и спустя несколько минут как ни в чем не бывало продолжал свою экскурсию «по темным сторонам города» уже в другом такси. В дальнейшем он никогда не возвращался в разговорах со мной к этому инциденту, а когда я упоминал его, он только пожимал плечами или философски замечал, как нам повезло, что мы не получили серьезных увечий. Для него этот случай значил не больше чем какая-нибудь потасовка в ночном клубе или схватка болельщиков на футбольном матче – обычное дело, на которое не стоит обращать внимания, если только ты не оказался в самой гуще событий.
Для меня же этот внезапный и жестокий взрыв всеобщего негодования, эта ошеломляющая сцена, вид водителя, уплывающего по морю человеческих голов, явились поворотным пунктом. Я вдруг словно прозрел. Я понял, что если хочу остаться в Бомбее, в городе, который я успел полюбить, то я сам должен измениться, я должен участвовать в его жизни. Город не позволит мне быть посторонним беспристрастным наблюдателем. Если я собираюсь жить здесь, то должен быть готов к тому, что он втянет меня в водоворот своего восторга и своей ярости. Я знал, что рано или поздно мне придется сойти с безопасной пешеходной дорожки и смешаться с бурлящей толпой, занять свое место в строю.
И как раз в тот момент, когда я пережил это потрясение, послужившее предзнаменованием и толчком к дальнейшим изменениям, Прабакер стал знакомить меня с темными сторонами бомбейской жизни. Начать он решил с рынка рабов, расположенного недалеко от Донгри, одного из центральных районов, знаменитого своими мечетями, базарами и ресторанами, специализирующимися на блюдах Мегхалаи[35 — Мегхалая – штат в восточной части Индии.]. Транспортная магистраль постепенно превратилась в улочку, улочка в переулок, а когда он стал слишком узок для автомобиля, мы вышли из него и влились в уличную суету. Чем дальше мы углублялись в закоулки Катилины, тем больше теряли представление о том, какой сегодня день, год или даже век. Вслед за автомобилями исчезли мотороллеры, и воздух стал чище, острее на вкус; бензиновые пары не заглушали больше запаха пряностей и благовоний. Грохот транспорта остался позади, стал слышен естественный уличный шум – детский хор, распевающий строки из Корана в школьном дворе, скрежет камней, которыми женщины перетирали специи на пороге дома, многообещающие выкрики точильщиков ножей, набивальщиков матрасов, печников и прочих ремесленников и торговцев. Все это были сугубо человеческие звуки, производимые голосом и руками.
На одном из перекрестков мы прошли мимо длинной металлической подставки для велосипедов, но даже этот простейший вид транспорта больше не попадался. Все переносили в огромных тюках на голове. В этом старом районе мы были избавлены от обычного для Бомбея бремени – отупляющего натиска солнца: в извилистых улочках было темно и прохладно. Хотя высота зданий не превышала трех-четырех этажей, они почти смыкались над головой, оставляя лишь узкую полоску неба, словно прорисованную голубой краской.
Сами дома были старыми и обветшалыми. Каменные фасады, некогда имевшие великолепный и впечатляющий вид, обсыпались, были покрыты копотью и кое-где залатаны. На них имелось множество балкончиков, так тесно расположенных, что соседи могли передавать друг другу вещи. Заглянув внутрь дома, можно было увидеть некрашеные стены и провисающие лестницы. Многие окна на первых этажах были открыты и служили своего рода магазинчиками, продававшими сладости, сигареты, бакалею, овощи и хозяйственные товары. Водопровод, судя по всему, был примитивным, если вообще был. По пути нам попалось несколько уличных колонок, куда сходились за водой женщины с металлическими и керамическими ведрами. Дома были обмотаны паутиной электрических проводов и кабелей, и даже это достижение современного века представляло собой всего лишь непрочную временную сеть, которую, казалось, можно было смести одним мощным ударом.
Улочки, сужающиеся с каждым поворотом, были словно перенесены из другого века, внешность людей тоже постепенно менялась по мере того, как мы углублялись в этот лабиринт. Встречалось все меньше и меньше хлопчатобумажных рубашек и брюк западного фасона, в которых ходили практически все в городе, и в конце концов эту одежду можно было увидеть только на маленьких детях. Мужчины же щеголяли в традиционных национальных костюмах самой разной расцветки. Они носили длинные шелковые рубахи, спускавшиеся до колен и застегнутые от шеи до талии жемчужными пуговицами, одноцветные или полосатые кафтаны, накидки с капюшонами, напоминающие монашеские одеяния, а также разнообразные белые или украшенные бисером облегающие головные уборы и тюрбаны ярких цветов – желтого, красного, синего. Женщины, по контрасту с невзрачностью самого квартала, были буквально усыпаны украшениями, которые не представляли большой ценности, но зато были искусно и даже вычурно изготовлены. Обращали на себя внимание специфические для каждой касты татуировки на лбу и щеках, на ладонях и запястьях. И не было ни одной женской ноги, чью лодыжку не охватывал бы браслет из витых медных колец с серебряными бубенчиками.
Все эти сотни людей разрядились так, скорее всего, исключительно для собственного удовольствия, а не для того, чтобы поразить фланирующую публику. По-видимому, одеваясь с традиционным шиком, они чувствовали себя увереннее. И еще одно бросалось в глаза: повсюду царила чистота. Стены зданий были в трещинах и пятнах; тесные проходы между ними были запружены народом вперемешку с козами, собаками и курами; осунувшиеся лица прохожих носили отпечаток нищеты, но были чисто вымыты, а улицы содержались в идеальном порядке.
Мы свернули в еще более древние переулки, где двоим трудно было разойтись. Чтобы уступить нам дорогу, встречным приходилось пятиться, вжимаясь в дверные проемы. Проходы были закрыты навесами и тентами, и стояла такая темнота, что дальше нескольких метров ничего не было видно. Я не спускал глаз с Прабакера, боясь, что, потеряв его, не найду дорогу обратно. Мой маленький гид то и дело оборачивался ко мне, чтобы предупредить о каком-нибудь камне или ступеньке под ногами или о выступе на уровне головы. Сосредоточившись на преодолении этих препятствий, я окончательно потерял ориентировку. Зафиксированный у меня в мозгу план города крутился так и сяк, пока не превратился в неразборчивое пятно, и я уже не имел представления, в какой стороне находится море или такие городские достопримечательности, как фонтан Флоры, вокзал Виктория и Кроуфордский рынок. Я чувствовал себя настолько погрузившимся в бесконечный людской поток, в обволакивавшие меня запахи и испарения, которые исходили из всех открытых дверей, что создавалось впечатление, будто я хожу внутри помещений, а не рядом с ними.
В одном из проходов мы наткнулись на лоток, за которым стоял человек в насквозь пропотевшем белом жилете, поджаривавший на сковородке с шипящим маслом какую-то смесь. Единственным источником света ему служили слабые, как в монастырской келье, и жутковатые язычки голубого пламени его керосиновой плитки. Лицо его выражало страдание, стоическое страдание, и привычный подавленный гнев человека, вынужденного заниматься тупым механическим трудом за гроши. Прабакер проследовал мимо него и растаял в темноте. Когда я приблизился к индийцу, он поднял голову, и наши глаза встретились. Вся сила его сверкавшего голубым светом гнева была в этот момент направлена против меня.
Спустя много лет в горах недалеко от осажденного Кандагара афганские партизаны, с которыми я подружился, как-то в течение нескольких часов вели беседу об индийских фильмах и их любимых болливудских звездах. «Индийские актеры – лучшие в мире, – сказал один из них, – потому что индийцы умеют кричать глазами». Взгляд, который бросил на меня тот человек с жаровней в глухом переулке, был именно кричащим, и я встал как вкопанный, будто он ударил меня кулаком в грудь. Мои глаза говорили ему: «Я сожалею. Я сожалею, что тебе приходится делать эту работу. Я сожалею, что твоя жизнь проходит так томительно в этой невыносимой жаре, темноте и безвестности. Я сожалею, что мешаю тебе…»
Не спуская с меня глаз, он схватился за ручку своей сковородки. На миг мое сердце учащенно забилось, и у меня мелькнула нелепая, жуткая мысль, что он собирается плеснуть кипящее масло мне в лицо. Страх погнал меня вперед, и я на деревянных ногах проскользнул мимо индийца, придерживаясь руками за сырую каменную стену. Не успел я сделать и двух шагов, как споткнулся о какую-то неровность плиточной мостовой и упал, сбив с ног еще одного прохожего. Это был пожилой человек, очень худой и слабый. Сквозь грубую ткань накидки я ощутил сплетение прутьев его грудной клетки. Он тяжело повалился и ударился головой о ступеньку перед открытыми дверями. Я неловко поднялся, скользя и оступаясь на шатких камнях, и хотел помочь старику встать тоже, но пожилая женщина, сидевшая на корточках в дверях дома, стала шлепать меня по рукам, давая понять, что моя помощь не требуется. Я извинился по-английски, лихорадочно вспоминая, как это говорится на хинди, – Прабакер ведь учил меня. «Муджхако афсос хейн»? Да, кажется, так. Я повторил эти слова трижды, четырежды. В этом темном тесном коридоре между двумя домами они отдавались гулким эхом, как молитва пьяного в пустой церкви.
Старик, скрючившийся возле дверей, тихо простонал. Женщина вытерла его лицо концом своего платка и подняла платок, чтобы продемонстрировать мне яркое пятнышко крови. Она ничего не произнесла, но скривила морщинистое лицо в презрительной гримасе и самим жестом словно говорила мне: «Смотри, олух неотесанный, здоровенный неуклюжий варвар, смотри, что ты наделал…»
Я задыхался от жары; темнота этого странного замкнутого пространства давила на меня, и мне казалось, что только мои руки, которыми я упирался в стены, не дают им обрушиться и похоронить меня под собой. Спотыкаясь, я попятился от двух стариков, затем бросился, не разбирая дороги, прочь по темному туннелю. Внезапно чья-то рука схватила меня за плечо, и я едва не вскрикнул от неожиданности.
– Куда ты так бежишь? – произнес Прабакер, посмеиваясь. – Нам сюда надо. По этому проходу, и в нем надо ходить ногами с краю, потому что в середине очень, очень большая грязь.
Он стоял возле какой-то щели между двумя глухими стенами. Зубы и глаза его слабо поблескивали, но позади него была кромешная тьма. Прабакер повернулся ко мне спиной, подтянул штаны и, расставив ноги и прижимая их к противоположным стенкам, стал продвигаться вперед мелкими шажками. Он ожидал, что я пойду за ним, но я колебался. И лишь когда его несуразная фигура исчезла в темноте, я тоже расставил ноги и потащился следом.
Было так темно, что я не видел Прабакера, хотя и слышал его шаги. Моя нога соскользнула с края и тут же увязла в какой-то вязкой гадости. В нос мне ударила отвратительная вонь. Теперь уж я стал старательно волочить ноги вплотную к стенкам. Внезапно что-то довольно увесистое проскользнуло по земле, коснувшись моей ноги. Секунду спустя еще одно существо, а затем и третье пробежали мимо, перекатываясь своими грузными телами по моим ногам.
– Прабу! – заорал я во весь голос, не зная, как далеко он ушел. – Тут, кроме нас, еще кто-то есть!
– Еще кто-то?
– Да! Какие-то существа все время бегают и наступают мне на ноги! Они тяжелые!
– Здесь только крысы наступают на ноги, Лин. Никаких тяжелых существ здесь нет.
– Крысы?! Ты что, шутишь? Они же размером с бультерьеров! Ну уж и экскурсию ты придумал, приятель!
– Крысы без проблем, Лин, – увещевал меня голос Прабакера из темноты. – Большие крысы – дружественное племя, они не затевают неприятностей человеку. Если он сам не нападает на них. Только одна вещь заставляет их кусаться, царапаться и выделывать тому подобное.
– И что же это за вещь, скажи на милость? – закричал я.
– Крик, баба. Они не любят, когда на них повышают голос.
– Надо же, какие гордые! – перешел я на хриплый шепот. – Но скажи, пожалуйста, долго нам еще идти? Меня уже в дрожь бросает от этого чудного места.
Прабакер внезапно остановился, и я налетел на него, вдавив в какую-то дверь.
– Мы пришли, – прошептал он и стал стучать в дверь, произведя целую серию ударов с паузами разной длины.
Послышался скрип отодвигаемого засова, и дверь распахнулась, ослепив нас неожиданно ярким светом. Прабакер схватил меня за рукав и втащил внутрь:
– Скорее, Лин! Приводить с собой больших крыс не разрешается.
Мы очутились в маленьком помещении с голыми стенами; освещалось оно прямоугольником шелковистого неба высоко над головой. Напротив были другие двери, через которые откуда-то из глубины здания доносились голоса. Но открывший нам громила захлопнул вторую дверь, прислонился к ней спиной и свирепо воззрился на нас, оскалив зубы. Прабакер сразу же стал уговаривать его льстивым тоном, сопровождая речь успокоительными жестами. Громила в ответ мотал головой, повторяя: «Нет, нет, нет».
Он высился перед нами как башня. Я стоял так близко к нему, что меня обдавало горячим воздухом, вырывавшимся из его ноздрей с таким звуком, с каким ветер свищет в расщелинах между скалами на морском берегу. Волосы его были подстрижены очень коротко, открывая взору огромные уши, помятые, как старые боксерские перчатки. Мышцы, заведовавшие мимикой квадратного лица, были, казалось, мощнее, чем у обыкновенного человека на спине. Грудь шириной с мои плечи с каждым вздохом вздымалась над громадным животом и вновь опадала. Тонкие, как кинжальное лезвие, усики подчеркивали его свирепость, и он таращился на меня с такой ничем не замутненной ненавистью, что я невольно взмолился про себя: «Господи, только не заставляй меня драться с ним».
Он поднял обе ладони, давая Прабакеру знак прекратить его вкрадчивую песнь. Руки были огромные, настолько мозолистые и шишковатые, что ими вполне можно было счищать присосавшихся к корпусу танкера моллюсков в сухом доке.
– Он говорит, что нам туда нельзя, – объяснил Прабакер.
– Ну что ж, – сказал я и с непринужденным видом взялся за ручку двери позади гиганта. – По крайней мере, мы не можем упрекнуть себя в том, что не пытались.
– Нет, нет, Лин! – остановил меня Прабакер. – Мы должны договориться с ним.
Громила сложил руки на груди, при этом швы его рубашки цвета хаки тихо затрещали.
– Не думаю, что это продуктивная идея, – криво усмехнулся я.
– Очень продуктивная! – настаивал Прабакер. – Туристов сюда не пускают, как и на другие человеческие рынки, но я сказал ему, что ты не такой турист, как все. Я сказал ему, что ты выучил язык маратхи. Но он мне не верит, и только это наша проблема. Он не верит, что иностранец может говорить на маратхи. Поэтому ты должен поговорить с ним, и тогда он нас пустит.
– Но я знаю не больше двадцати слов на маратхи, Прабу.
– Двадцать слов не проблема, баба. Ты только начни и увидишь. Скажи ему, как тебя зовут.
– Как меня зовут?
– Да, как я тебя учил. Не на хинди, а на маратхи. Скажи ему, давай…
– Хм… маза нао Лин ахей, – пробормотал я неуверенно. – Меня зовут Лин.
– Бапре! – вскричал неумолимый страж, выпучив глаза. – Боже всемогущий!
Приободрившись, я произнес еще несколько вызубренных фраз:
– Маза Деш Новая Зеландия ахей. Ата ме Колабала рахелла ахей. – (Я из Новой Зеландии. Сейчас я живу в Колабе.)
– Кай гарам мадчуд! – воскликнул он, впервые улыбнувшись.
Буквально это выражение переводится «Какой пылкий извращенец!», но последнее слово употребляется так часто в самых разных ситуациях, что означает, скорее, просто «мошенник».
Громила дружески схватил меня за плечи, едва не раздавив их.
Тут уж я выдал ему все, что знал на маратхи, начиная с самого первого предложения, выученного мною у Прабакера, – «Мне ужасно нравится ваша страна» – и заканчивая просьбой, которую я часто произносил в столовых, хотя в этом укромном уголке она была, пожалуй, не совсем к месту: «Пожалуйста, выключите вентилятор, чтобы я мог спокойно доесть суп».
– Теперь достаточно, баба, – проворковал Прабакер, ухмыляясь во весь рот.
Я замолчал, и стражник разразился очень длинной и цветистой тирадой. Прабакер переводил его слова, кивая и помогая себе красноречивыми жестами:
– Он говорит, что он полицейский в Бомбее и его зовут Винод.
– Он коп?!
– Да-да, Лин. Он полицейский коп.
– Значит, этот рынок находится в ведении полиции?
– Нет-нет. Это для него только побочная работа. Он говорит, что он очень, очень рад познакомиться с тобой… Он говорит, что он впервые видит гору[36 — Го`ра – белый человек (хинди).], умеющего говорить на маратхи… Он говорит, что некоторые иностранцы умеют говорить на хинди, но никакой из них не говорит на маратхи… Он говорит, что маратхи его родной язык. Он родился в Пуне… Он говорит, что в Пуне говорят на очень чистом маратхи и ты должен поехать туда и послушать их… Он говорит, что он очень счастлив. Ты для него как родной сын… Он говорит, что ты должен пойти к нему домой, поесть у него и познакомиться с его семьей… Он говорит, что это будет стоить сто рупий…
– Что будет стоить сто рупий?
– Это плата за вход, Лин. Бакшиш. Сто рупий. Заплати ему.
– Да, конечно.
Я достал из кармана пачку банкнот, отсчитал сто рупий и протянул их церберу. Полицейские отличаются удивительной ловкостью в обращении с денежными знаками и с таким мастерством хватают их и прячут, что даже самые опытные мошенники, специализирующиеся на игре в скорлупки, завидуют им. Громила обеими руками пожал мою протянутую руку, смахнул с груди воображаемые крошки, якобы оставшиеся после еды, и с хорошо отработанным невинным видом почесал нос. Деньги при этом, естественно, исчезли. Он открыл дверь и жестом пригласил нас в узкий коридор.
Пройдя с десяток шагов и сделав два крутых поворота, мы оказались в каком-то дворике. Здесь были люди, сидевшие на грубых деревянных скамейках или стоявшие группами по двое-трое. Среди них попадались арабы в свободных хлопчатобумажных одеждах и куфиях[37 — Куфия – мужской головной убор в виде платка, закрепляемого на голове обручем.]. Индийский мальчик переходил от одной группы к другой, разнося черный чай в высоких стаканах. Несколько мужчин посмотрели на нас с Прабакером с любопытством и нахмурились. Когда Прабакер, сияя улыбкой, стал приветственно жестикулировать, они отвернулись, возобновив прерванный разговор. Время от времени тот или иной из них бросал испытующий взгляд на группу детей, сидевших на длинной скамье под изодранным полотняным навесом.
По сравнению с ярко освещенной передней каморкой здесь было сумрачно. Лишь кое-где между натянутыми над головой обрывками холста проглядывало небо. Дворик был окружен голыми стенами, выкрашенными в коричневый и пурпурный цвет. Немногочисленные окна, как можно было видеть сквозь прорехи в холстине, были забиты досками. Этот дворик, похоже, был не запланированной частью всего сооружения, а скорее каким-то архитектурным недоразумением, случайно появившимся в результате многочисленных перестроек окружающих зданий, составляющих этот перенаселенный массив. Пол был устлан как попало керамическими плитками, взятыми из различных ванных комнат и кухонь. Помещение скудно освещалось двумя голыми лампочками, напоминавшими какие-то странные фрукты, висящие на засохшей лозе.
Мы пристроились в свободном уголке, взяли предложенный нам чай и какое-то время цедили его в молчании. Затем Прабакер стал вполголоса рассказывать мне об этом месте, которое он называл человеческим рынком. Дети, сидевшие под изодранным навесом, были рабами. Они прибыли сюда из разных штатов, спасаясь от циклона в Западной Бенгалии, от засухи в Ориссе, от эпидемии холеры в Харьяне, от бесчинств сепаратистов в Пенджабе. Дети бедствия, найденные, завербованные и купленные специальными агентами, они добирались до Бомбея по железной дороге, зачастую проделав путь в несколько сотен километров без сопровождения взрослых.
Мужчины во дворике были либо агентами, либо покупателями. Хотя на первый взгляд они не проявляли особого интереса к детям на скамье, Прабакер объяснил мне, что на самом деле идет оживленная торговля и споры и даже в этот самый момент заключаются сделки.
Дети были маленькие, худые и беззащитные. Двое из них сидели, переплетя руки, еще один обнимал своего товарища, словно защищая его. Все они не спускали глаз с откормленных и разодетых мужчин, следя за выражением на их лицах и за каждым красноречивым жестом их рук с перстнями. Черные детские глаза мерцали, как вода на дне глубокого колодца.
Почему так легко черствеет человеческое сердце? Как мог я находиться в этом месте, видеть этих детей и ничего не сделать, чтобы остановить это? Почему я не сообщил об этой работорговле властям или не прекратил ее сам, раздобыв пистолет? Ответом на этот вопрос, как и на все кардинальные жизненные вопросы, могло служить сразу несколько причин. Я был беглым арестантом, которого разыскивали, за которым гнались, и потому не имел возможности связаться с правительственными чиновниками или полицией. Я был иностранцем в этой своеобразной стране, это была чужая земля, со своей культурой, своим жизненным укладом. Надо было больше знать о ней – по крайней мере, понимать, что говорят эти люди, прежде чем вмешиваться в их дела. И по собственному горькому опыту я знал, что иногда, пытаясь из лучших побуждений исправить что-либо, мы своими действиями лишь усугубляем зло. Если бы, к примеру, я ворвался сюда с оружием и помешал торговле, она просто переместилась бы в какое-нибудь другое укромное место. Это было ясно даже мне, чужаку. А рынок, возникший на новом месте, мог оказаться еще хуже этого. Я ничего не мог предпринять и понимал это.
Но я не понимал тогда, и это не давало мне покоя еще долго после «дня рабов», почему это зрелище не доконало меня. Лишь значительно позже я осознал, что объяснение отчасти кроется в моем тюремном прошлом и в людях, которых я встречал там. Некоторые из них – слишком многие – отсиживали уже четвертый или пятый срок. Чаще всего они начинали с исправительных школ – «школ для мальчиков», как их называли, – или с учебно-исправительных лагерей, и были они в то время не старше этих маленьких рабов-индийцев. Зачастую их били, морили голодом, запирали в одиночке. Некоторые из них – слишком многие – становились жертвой сексуального домогательства. Спросите любого человека, имеющего за плечами длительный срок тюремного заключения, и он скажет вам, что ничто так не ожесточает человеческое сердце, как правоохранительная система.
И хотя это, конечно, неправильно и постыдно, но я был рад тому, что мой прошлый опыт ожесточил мое сердце. Этот камень у меня в груди служил мне единственной защитой от всего того, что я видел и слышал во время этих прабакеровских экскурсий по темным уголкам бомбейской жизни.
Прозвучали чьи-то хлопки, рассыпавшиеся эхом по помещению, и маленькая девочка поднялась со скамьи и стала исполнять танец, напевая. Это была любовная песня из популярного индийского фильма. В последующие годы я слышал ее много раз, сотни раз, и всегда вспоминал эту десятилетнюю девочку и ее удивительно сильный, высокий и тонкий голос. Она качала бедрами и выпячивала несуществующую грудь, по-детски имитируя движения стриптизерки, и покупатели с агентами глядели на нее с интересом.
Прабакер продолжал играть роль Вергилия, объясняя мне тихим голосом все, что происходило в этом аду. Он сказал, что если бы дети не попали на рынок рабов, то неминуемо умерли бы. Вербовщики рыскали с профессиональным мастерством ищеек по местам катастроф, кидаясь из провинции, пострадавшей от засухи, к очагу землетрясения, от землетрясения – к наводнению. Голодающие родители, уже пережившие болезнь и смерть своих детей, благословляли вербовщиков и, ползая на коленях, умоляли их купить сына или дочь, чтобы хоть один ребенок остался в живых.
Мальчикам, продаваемым в рабство, было суждено стать погонщиками верблюдов в Саудовской Аравии, в Кувейте и других странах Персидского залива. Некоторые из них, сказал Прабакер, будут искалечены во время верблюжьих бегов, которые устраиваются на потеху богатым шейхам. Некоторые умрут. Когда мальчики вырастали и становились слишком большими, чтобы участвовать в бегах, их бросали на произвол судьбы. Девочки же работали служанками в богатых домах по всему Ближнему и Среднему Востоку или занимались сексуальным обслуживанием.
Но зато, сказал Прабакер, эти мальчики и девочки были живы. Им повезло. На каждого ребенка, попадавшего на рынок рабов, приходились сотни тех, кто голодал и умирал в страшных мучениях.
Голод, рабство, смерть. Обо всем этом поведал мне тихо журчавший голос Прабакера. Есть истина, которая глубже жизненного опыта. Ее невозможно увидеть глазами или как-то почувствовать. Это истина такого порядка, где рассудок оказывается бессильным, где реальность не поддается восприятию. Мы, как правило, беззащитны перед ее лицом, а познание ее, как и познание любви, иногда достигается столь высокой ценой, какую ни одно сердце не захочет платить по доброй воле. Она далеко не всегда пробуждает в нас любовь к миру, но она удерживает нас от ненависти к нему. И единственный способ познания этой истины – передача ее от сердца к сердцу, как передал ее мне Прабакер, как теперь я передаю ее вам.
Глава 4
– Ты знаешь тест на «борсалино»?
– Какой тест?
– На шляпу борсалино. Он позволяет установить, настоящая борсалино перед тобой или жалкая имитация. Ты ведь, надеюсь, знаешь, что такое борсалино?
– Нет, боюсь, что я не в курсе.
– Ах вот как? – протянул Дидье с улыбкой, которая выражала одновременно удивление, лукавство и презрение. Каким-то необъяснимым образом это сочетание делало улыбку неотразимо привлекательной. Подавшись вперед и наклонив голову набок, он произнес, потряхивая своими черными кудряшками, что как бы подчеркивало значительность его слов: – Борсалино – это непревзойденная по качеству принадлежность туалета. Многие полагают, и я в том числе, что более уникального мужского головного убора не существовало за всю историю человечества. – Он описал руками круг над головой, изображая шляпу. – У этой шляпы широкие поля, и изготавливается она из черной или белой кроличьей шерсти.
– Ну и что? – отозвался я вполне дружелюбным, как мне казалось, тоном. – Кроличья шляпа есть кроличья шляпа, что тут особенного?
Дидье пришел в ярость:
– «Что особенного»?! Ну, знаешь, друг мой! Борсалино – это нечто гораздо большее, нежели просто шляпа. Это произведение искусства! Прежде чем выставить ее на продажу, ее расчесывают вручную не меньше десяти тысяч раз. «Борсалино» – это особый элитарный стиль, который в течение многих десятилетий служил отличительным признаком высших кругов итальянской и французской мафии. Само слово «борсалино» стало синонимом мафии, и крутых парней из преступного мира в Милане и Марселе так и называли – «борсалино». Да, в те дни гангстеры обладали несомненным стилем. Они понимали, что если уж ты живешь вне закона и существуешь за счет убийства и ограбления своих ближних, то обязан, по крайней мере, выглядеть элегантно. Ты согласен?
– Да, это, пожалуй, минимум того, что они обязаны были сделать ради общества, – улыбнулся я.
– Разумеется! А теперь, увы, все, на что они способны, – это поза. Никакого стиля! Это характерная черта нашего времени: стиль превращается в позу, вместо того чтобы поза поднималась до стиля.
Он помолчал, дабы я в полной мере оценил его афоризм.
– А тест на шляпу борсалино заключается в том, что ее скатывают в трубочку, очень плотную, и протягивают через обручальное кольцо. Если шляпа при этом не мнется и не теряет своей формы, то, значит, это настоящая борсалино.
– И ты хочешь сказать…
– Да, именно так! – возопил Дидье, грохнув кулаком по столу.
Было восемь часов, мы сидели в «Леопольде» неподалеку от прямоугольной арки, выходившей на Козуэй. Иностранцы за соседним столиком обернулись на шум, но официанты и завсегдатаи не обратили никакого внимания на чудаковатого француза. Дидье уже девять лет ел, пил и разглагольствовал в «Леопольде». Все знали, что существует определенная граница, дальше которой нельзя испытывать его терпение, иначе он становится опасен. Известно было также, что граница эта проложена не в сыпучем песке его собственной жизни, его чувств и убеждений. Она проходила через сердца людей, которых он любил. Если их обижали, причиняли им какой-либо вред, это пробуждало в Дидье холодную и убийственную ярость. А любые слова или поступки, направленные против него самого, – кроме разве что нанесения телесных повреждений – не задевали его и воспринимались с философским спокойствием.
– Comme ?a![38 — Вот так! (фр.)] Я это все к тому, что твой маленький друг Прабакер подверг тебя такому же тесту. Скатал тебя в трубочку и пропустил через кольцо, чтобы проверить, настоящий ты «Борсалино» или нет. Именно для этого он и устроил тебе экскурсию по разным непотребным закоулкам этого города.
Я молча потягивал кофе. Конечно, так и было – Прабакер действительно подверг меня испытанию, – но я не хотел уступать Дидье права на открытие этого факта.
Вечерняя толпа туристов из Германии, Швейцарии, Франции, Англии, Норвегии, Америки, Японии и десятка других стран схлынула, уступив место ночной толпе индийцев и экспатриантов, избравших Бомбей своим домом. Местные заявляли свои права на «Леопольд» и другие заведения вроде него – кафе «Мондегар», «Мокамбо», «Свет Азии» – по вечерам, когда туристы прятались в своих отелях.
– Если это было испытание, – сдался я наконец, – то, видимо, я его выдержал. Прабакер пригласил меня в гости к своим родителям, в деревушку на севере штата.
Дидье театрально вздернул брови:
– И надолго?
– Не знаю. Месяца на два. А может, и больше.
– Ну, тогда ты прав, – заключил Дидье. – Твой маленький друг влюбился в тебя.
– По-моему, это все-таки слишком сильное выражение, – нахмурился я.
– Нет-нет, совсем не то, что ты думаешь. Знаешь, здесь надо быть осторожным с этой влюбчивостью. Здесь все не так, как в других местах. Это Индия. Все приезжающие сюда неизбежно влюбляются в кого-нибудь – и обычно неоднократно. Но индийцев в этом никому не переплюнуть. Возможно, твой Прабакер тоже влюбился в тебя. И в этом нет ничего странного. Я уже достаточно долго живу в Бомбее и знаю, что говорю. Индийцы влюбляются очень легко и часто. Именно поэтому всем этим сотням миллионов удается достаточно мирно уживаться друг с другом. Разумеется, они не ангелы. Они так же дерутся, лгут и обманывают, как и все остальные. Но индийцы гораздо лучше, чем все другие народы, умеют любить своих соотечественников.
Дидье раскурил сигарету и стал размахивать ею, как сигнальным флажком, пока официант не заметил его и не кивнул, давая знак, что заказ принят. Когда водка с закуской, приправленной карри, прибыла, Дидье продолжил:
– Индия примерно в шесть раз больше Франции. А населения здесь в двадцать раз больше. В двадцать! Можешь мне поверить, если бы миллиард французов жил в такой скученности, то текли бы реки крови. Низвергались бы водопады! А между тем французы, как всем известно, самая цивилизованная нация в Европе. И даже во всем мире. Так что, будь уверен, без любви Индия прекратила бы существование.
К нам присоединилась Летиция, севшая слева от меня.
– По какому поводу ты сегодня горячишься, мошенник? – приветливо поинтересовалась она. Благодаря ее южнолондонскому акценту последнее слово прозвучало как выстрел.
– Он просто убеждал меня, что французы – самая цивилизованная нация в мире.
– И весь мир это признает, – добавил Дидье.
– Когда вы вырастите на своих виноградниках нового Шекспира, дружище, тогда я, возможно, и соглашусь с тобой, – промурлыкала Летти с улыбкой, которая была столь же теплой, сколь и снисходительной.
– Дорогая моя, пожалуйста, не думай, что я недооцениваю вашего Шекспира, – радостно закудахтал Дидье. – Я очень люблю английский язык – ведь он больше чем наполовину состоит из французских слов.
– Touchе![39 — Сдаюсь! (фр.)] – ухмыльнулся я. – как говорим мы, англичане.
В этот момент к нам подсели Улла с Моденой. Улла была одета для работы: короткое облегающее черное платье с хомутиком на открытой шее, сетчатые чулки и туфли на шпильках. На ее шее и в ушах сверкали ослепительные поддельные бриллианты. Ее наряд был полной противоположностью костюму Летти, состоявшему из парчового жакета бледно-желтого цвета, свободной атласной темно-коричневой юбки-брюк и сапог. Но особенно заметен был контраст – причем удивительный – между их лицами. У Летти был прямой, чарующий, уверенный и иронический взгляд, в котором сквозила тайна, в то время как большие голубые глаза Уллы, при всем ее профессионально-сексуальном антураже, не выражали ничего, кроме наивности, неподдельной бессмысленной наивности.
– Я сегодня запрещаю тебе говорить со мной, Дидье, – сразу же заявила Улла, надув губки. – Я провела три ужасных часа в компании с Федерико, и все по твоей вине.
– Хм! – буркнул Дидье. – Федерико!
– О-о-о, – пропела Летти, умудрившись сделать три звука из одного. – Что случилось с молодым красавчиком Федерико? Улла, дорогуша, поделись с нами сплетней.
– На джа, Федерико ударился в религию и чуть не свел меня этим с ума. И все это из-за Дидье.
– Да, – с возмущением подтвердил Дидье. – Федерико нашел Бога, и это настоящая трагедия. Он больше не пьет, не курит, не употребляет наркотиков. И разумеется, никакого секса ни с кем – даже с самим собой. Такой талант пропадает – просто ужасно. Он же был сущим гением развращенности, моим лучшим учеником, моим шедевром! Свихнуться можно. А теперь он решил стать добропорядочным, хорошим человеком – в худшем смысле этого слова.
– Ну что ж, одно приобретаешь, другое теряешь, это неизбежно, – вздохнула Летти с притворным участием. – Не вешай носа, Дидье. Поймаешь в свои сети какую-нибудь другую рыбешку, поджаришь ее и заглотишь.
– Это мне надо сочувствовать, а не Дидье, – проворчала Улла. – Федерико пришел от Дидье такой расстроенный, что просто плакал. Scheisse! Wirklich![40 — Буквально! (нем.)] Целых три часа он рыдал и изливал свой бред насчет новой жизни. В конце концов мне стало очень жалко его, и, когда Модене пришлось вышвырнуть его вместе с его Библиями на улицу, я очень переживала. Это все ты виноват, Дидье, и я не буду прощать тебя дольше, чем обычно.
– У фанатиков, – задумчиво произнес Дидье, не обращая внимания на ее попреки, – почему-то всегда абсолютно стерильный и неподвижный взгляд. Они похожи на людей, которые не мастурбируют, но непрерывно думают об этом.
– Дидье, я обожаю тебя, – выдавила Летти, заикаясь от смеха. – Хоть ты и такой мерзопакостный отвратный тип…
– Нет, ты обожаешь его именно за то, что он такой мерзопакостный отварной тип, – объявила Улла.
– Я сказала «отвратный», дорогая, а не «отварной», – терпеливо поправила ее Летти, еще не оправившаяся от приступа смеха. – Как может живой человек быть мерзопакостным или немерзопакостным отварным типом?
– Я, конечно, не так уж хорошо разбираюсь в ваших английских шутках, – упорствовала Улла, – но, по-моему, он как раз мерзопакостный отварной тип.
– Уверяю вас, – запротестовал Дидье, – что в отварном виде я ничуть не хуже любого другого, так что зря вы так…
В этот момент из вечернего уличного шума вынырнула Карла в сопровождении Маурицио и индийца лет тридцати с небольшим. Маурицио и Модена приставили к нашему столику еще один, и мы заказали выпивку и закуску на восьмерых.
– Лин, Летти, это мой друг Викрам Патель, – представила индийца Карла, дождавшись относительной тишины. – По-моему, только вы двое незнакомы с ним. Недели две назад Викрам вернулся из Дании, где довольно долго отдыхал.
Мы с Летти поздоровались с Викрамом, но мои мысли были заняты Карлой и Маурицио. Он сидел рядом с Карлой, напротив меня, положив руку на спинку ее стула и наклонившись к ней, так что их головы почти соприкасались, когда они говорили.
Красавцы пробуждают в некрасивых мужчинах недоброе чувство – это не ненависть, но нечто большее, чем просто неприязнь. Конечно, это чувство неразумно и ничем не оправдано, но возникает всегда, прячась в тени, отбрасываемой завистью. А когда ты влюбляешься в женщину, оно выползает из тени и заявляет о себе в твоем взгляде. Я смотрел на Маурицио, и со дна души у меня поднималась эта муть. Ровные белые зубы итальянца, его гладкое смуглое лицо и густые черные волосы восстановили меня против него гораздо быстрее и эффективнее, чем это могли бы сделать какие-либо неприятные черты его характера.
А Карла была прекрасна. Ее волосы, собранные в овальный пучок на затылке, сверкали, как вода, перекатывающаяся через черные речные камни, зеленые глаза светились воодушевлением и радостью жизни. На ней был модный индийский костюм шальвар-камиз – доходившее до колен платье поверх брюк свободного покроя из того же шелка оливкового цвета.
Очнувшись от своих грез, я услышал голос нашего нового друга Викрама:
– Я потрясающе провел там время, йаар. В Дании все очень уныло и флегматично, люди очень неестественные. Они так, блин, владеют собой, прямо невозможно поверить. Я пошел в сауну в Копенгагене. Это охрененно большое помещение, где моются смешанным составом: мужчины вместе с женщинами и все расхаживают в чем мать родила. Совсем, абсолютно голые, йаар. И никто на это не реагирует. Даже глазом не моргнет! Индийские парни такого не вынесли бы. Они бы завелись, это точно.
– А ты завелся, Викрамчик? – вкрадчиво спросила Летти.
– Издеваешься, да? Я был единственный во всей сауне, кто обернулся полотенцем, потому что только у меня одного встал.
– Я не понимаю, что он сказал, – объявила Улла, когда смех утих.
Это была просто констатация факта – она не жаловалась и не просила объяснить.
– Слушайте, я ходил туда три недели ежедневно, йаар, – продолжал Викрам. – Я думал, что если проведу там достаточно много времени, то привыкну, как эти супертерпеливые датчане.
– К чему привыкнешь? – спросила Улла.
Викрам запнулся, обалдело посмотрел на нее и повернулся к Летти:
– И никакого толку. Все было бесполезно. Три недели прошло, а мне по-прежнему приходилось обматываться полотенцем. Сколько бы я туда ни ходил, стоило мне увидеть, как эти фиговины прыгают вверх и вниз и мотаются из стороны в стороны, и все во мне так и напрягалось. Что тут можно сказать? Я индиец, и такие места не для меня.
– То же самое испытывают индийские женщины, – заметил Маурицио. – Даже когда занимаешься с ними любовью, невозможно до конца раздеться.
– Ну, это не совсем так, – отозвался Викрам. – С кем проблема, так это с мужчинами. Индийские женщины готовы к переменам, а молоденькие пташки из более-менее зажиточных семей так просто бредят этим, йаар. Они все образованные, хотят коротко стричься, носить короткие платья и иметь короткие любовные приключения. Они-то с радостью хватаются за все новое, но их удерживают мужчины. Средний индийский мужчина так же примитивен в сексуальном отношении, как четырнадцатилетний мальчуган.
– Ты будешь мне рассказывать об индийских мужчинах! – пробурчала Летти.
Рассуждения Викрама уже какое-то время слушала вместе со всеми подошедшая к нам Кавита Сингх. С ее модной короткой прической, в джинсах и белой футболке с эмблемой Нью-Йоркского университета, Кавита служила живым примером современных индийских женщин, о которых он говорил. Она выглядела классно.
– Ты такой чудд[41 — Здесь: болтун, пустобрех (хинди).], Вик, – бросила она, садясь справа от меня. – Митингуешь тут, а сам ничуть не лучше остальных мужчин. Стоит только посмотреть, как ты третируешь свою сестренку, йаар, если она осмелится надеть джинсы и облегающий свитер.
– Слушай, я же сам купил ей этот свитер в Лондоне в прошлом году! – возмутился Викрам.
– И после этого довел ее до слез, когда она надела его на джазовый ятра[42 — Ятра – концерт, фестиваль (хинди).], на?
– Но я же не думал, что она захочет носить его, выходя из дому, – вяло возразил он под общий хохот и сам рассмеялся громче всех.
Викрам Патель не выделялся из общей массы ни своим ростом, ни сложением, но во всем остальном был далеко незаурядным человеком. Его густые вьющиеся черные волосы обрамляли красивое и умное лицо. Живые и яркие светло-карие глаза над орлиным носом и безукоризненно подстриженными усами а-ля Сапата[43 — Эмилиано Сапата (1879–1919) – деятель мексиканской революции 1910–1917 гг. Носил пышные развесистые усы.] смотрели твердо и уверенно. Все детали его ковбойского костюма – сапоги, штаны, рубашка и кожаный жилет – были черными. За его спиной на кожаном ремешке, обвязанном вокруг горла, свисала плоская черная испанская шляпа-фламенко. Галстук-шнурок с орнаментальным зажимом, пояс из долларовых монет и лента на шляпе сверкали серебром. Он выглядел точь-в-точь как герой итальянского вестерна – откуда он и перенял свой стиль. Викрам был одержим фильмами Серджо Леоне[44 — Серджо Леоне (1929–1989) – итальянский кинорежиссер, мастер «спагетти-вестерна».] «Однажды на Диком Западе» и «Хороший, плохой, злой». После того как я познакомился с ним ближе и видел, как он сумел завоевать сердце любимой женщины, после того как он плечом к плечу со мной дрался с бандитами, охотившимися на меня, я убедился, что он и сам не уступает ни одному из обожаемых им экранных героев.
А в ту первую встречу в «Леопольде» меня поразило, насколько полно им владеет его ковбойский идеал и с какой непринужденностью Викрам следует ему в своем стиле. «У Викрама что на уме, то и в костюме», – сказала однажды Карла. Это была дружеская шутка, и все так ее и восприняли, но к ней примешивалась и капелька презрения. Я не рассмеялся шутке вместе с остальными. Меня привлекают люди, умеющие, как Викрам, продемонстрировать свою страсть с блеском, их откровенность находит отклик в моем сердце.
– Нет, в самом деле, – продолжал гнуть свое Викрам. – В Копенгагене есть заведение, которое называется «телефонный клуб». Там стоят столики, как в кафе, йаар, и у каждого свой номер, написанный светящимися цифрами. Если ты видишь, например, за двенадцатым столиком какую-нибудь привлекательную девчонку, первый класс, то можешь набрать по телефону номер двенадцать и поговорить с ней. Охрененная штука, блин. Человек снимает трубку и не знает, с кем разговаривает. Иногда проходит целый час, а ты никак не можешь угадать, кто тебе звонит, потому что все говорят одновременно. И наконец ты называешь номер своего столика. Я завел там отличное знакомство, можете мне поверить. Но если устроить такой клуб здесь, то разговор не продлится и пяти минут. Наши парни не сумеют поддержать его. Они слишком неотесанные, йаар. Начнут сквернословить, молоть всякий похабный вздор, все равно что хвастливые пацаны. Это все, что я могу сказать. В Копенгагене люди намного флегматичнее, а нам, в Индии, еще долго надо стараться, чтобы достигнуть такой флегматичности.
– Я думаю, что здесь все-таки становится лучше, – выразила свое мнение Улла. – У меня есть такое чувство, что у Индии хорошее будущее. Я уверена, что будет хорошо – ну, лучше, чем сейчас, и очень многие будут счастливее.
Все как один уставились на нее, не находя слов. Казалось невероятным, что эти мысли высказывает молодая женщина, зарабатывающая тем, что развлекает в постели индийцев, у которых достаточно денег, чтобы заплатить за развлечение. Ее использовали как вещь, над ней издевались, и никто не удивился бы, услышав от нее что-нибудь циничное. Оптимизм – собрат любви и абсолютно подобен ей в трех отношениях: он также не знает никаких преград, также лишен чувства юмора и также застигает тебя врасплох.
– Дорогая моя глупенькая Улла, – скривил губы Дидье, – на самом деле ничего не меняется. Если бы ты поработала официанткой или уборщицей, твое доброжелательное отношение к человечеству быстро испарилось бы и сменилось презрением. Два самых верных способа выработать у себя здоровое отвращение к людям и неверие в их светлое будущее – подавать им еду и убирать после них, причем за ничтожные деньги. Я испробовал оба этих занятия в то жуткое время, когда был вынужден зарабатывать на жизнь собственным трудом. Это было кошмарно. До сих пор пробирает дрожь, как вспомню. Вот тогда-то я и понял, что ничто, по сути, не меняется. И, говоря по правде, я рад этому. Если бы мир стал лучше – или хуже, – я не смог бы делать столько денег.
– Чушь собачья, – заявила Летти. – Все может стать лучше или хуже, гораздо хуже. Спроси тех, кто живет в трущобах. Им-то прекрасно известно, как плохо все может обернуться. Не правда ли, Карла?
Все обратились к Карле. Она помолчала, крутя чашку на блюдце своим длинным указательным пальцем.
– Я думаю, что мы все, каждый из нас, должен заработать свое будущее, – произнесла она медленно. – Точно так же, как и все остальные важные для нас вещи. Если мы сами не заработаем свое будущее, его у нас и не будет. Если мы не трудимся ради него, то мы его не заслуживаем и обречены вечно жить в настоящем. Или, что еще хуже, в прошлом. И возможно, любовь – это один из способов заработать себе будущее.
– А я согласен с Дидье, – сказал Маурицио, запивая еду холодной водой. – Пусть лучше ничего не меняется, меня устраивает то, что есть.
– А ты? – повернулась Карла ко мне.
– Что – я? – улыбнулся я.
– Если бы ты знал с самого начала, что будешь какое-то время по-настоящему счастлив, но затем счастье изменит тебе и это принесет тебе много боли, выбрал бы ты это кратковременное счастье или предпочел бы жить спокойно, не ведая ни счастья, ни печали?
Ее вопрос выбил меня из колеи, и я почувствовал себя неловко под выжидательными взглядами всей компании. У меня было ощущение, что этот вопрос – своего рода испытание; возможно, она уже задавала его остальным, они на него в свое время ответили и теперь ждут, что скажу я. Не знаю, что она хотела услышать от меня, но только сама моя жизнь была ответом. Я сделал свой выбор, когда перелез через тюремную стену.
– Я выбрал бы счастье, – сказал я и был награжден легкой улыбкой Карлы – то ли одобрительной, то ли удивленной. А может быть, в ней было и то и другое.
– А я бы не выбрала, – возразила Улла, нахмурившись. – Ненавижу боль и несчастье, просто не выношу. Я предпочла бы не получить ничего, нежели хотя бы капельку печали. Наверное, поэтому я так люблю спать, на? Когда спишь, то не можешь быть по-настоящему печальным. Во сне можно испытывать счастье и страх или сердиться, но почувствовать печаль можно только после того, как совсем проснулся.
– Я согласен с Уллой, – сказал Викрам. – В мире и так, блин, слишком много всякой печали и горя, йаар. Потому-то все и ходят как неживые. По крайней мере, я чувствую себя неживым из-за этого, это точно.
– А я… пожалуй… соглашусь с тобой, Лин, – протянула Кавита, но трудно было сказать, действительно ли она разделяет мое мнение, или же в ней просто говорит инстинктивное желание противоречить Викраму. – Если у тебя есть шанс быть по-настоящему счастливым, то надо хвататься за него, чего бы это ни стоило.
Дидье поерзал, недовольный тем оборотом, какой приняла наша беседа.
– Вы все слишком умничаете, – буркнул он.
– Я не умничаю, – тут же уязвленно возразил Викрам.
Дидье приподнял одну бровь:
– Я хочу сказать, что вы чересчур все усложняете. Жизнь на самом деле очень проста. Сначала мы боимся всего вокруг – животных, погоды, деревьев, ночного неба, – всего, кроме других людей. А потом, наоборот, мы боимся других и почти ничего больше. Мы никогда не знаем, почему люди поступают так, а не иначе. Никто не говорит правды. Никто не чувствует себя счастливым, не чувствует себя в безопасности. Все в мире так извращено, что нам остается только одно – выжить. Это худшее, что мы можем сделать, но мы должны выжить. Именно поэтому мы цепляемся за всякие небылицы вроде того, что у нас есть душа, а на небесах сидит бог, который о ней заботится. Вот так-то.
Он откинулся на стуле и обеими руками подкрутил концы своих дартаньяновских усиков.
– Не уверен, что до конца понял все, что он тут наговорил, – проворчал Викрам, – но почему-то одновременно хочу с ним согласиться и чувствую себя оскорбленным.
Маурицио поднялся, собираясь уходить. Он положил руку Карле на плечо и одарил всех чарующей приветливой улыбкой. Я вынужден был признать, что улыбка неотразима, и в то же время ненавидел его за это.
– Не тушуйся, Викрам, – дружески обратился он к индийцу. – Просто Дидье может говорить только на одну тему – о себе самом.
– Но тут он бессилен: тема слишком интересная, – тут же вставила Карла.
– Merci, дорогая, – пробормотал Дидье с легким поклоном в ее сторону.
– Allora, Модена. Пошли. Мы, наверно, увидимся с вами попозже в «Президенте», si? Ciao![45 — Allora – пошли; si – да; Ciao! – Пока! (ит.)]
Он поцеловал Карлу в щеку, нацепил свои солнцезащитные очки «Рей-бэн» и прошествовал вместе с Моденой из ресторана, влившись в уличную толпу. Испанец не сказал за весь вечер ни слова и ни разу не улыбнулся, но сейчас, когда они смешались с другими фланирующими прохожими, я заметил, что он с горячностью обращается к Маурицио, потрясая кулаком. Заглядевшись им вслед, я вздрогнул, услышав слова Летти, и почувствовал легкий укол совести, потому что она высказала то, что пряталось, насупившись, в самом дальнем уголке моего сознания.
– Маурицио совсем не так хорошо владеет собой, как кажется, – сердито бросила она.
– Все мужчины не так хорошо владеют собой, как кажется, – отозвалась Карла, с улыбкой накрыв руку Летти своей.
– Ты больше не любишь Маурицио? – спросила Улла.
– Я ненавижу его, – бросила Летти. – Нет, не ненавижу. Скорее презираю. Не могу его видеть.
– Дорогая моя Летиция… – начал было Дидье, но Карла прервала его:
– Не надо сейчас, Дидье. Пусть это уляжется.
– Удивляюсь, как я могла быть такой дурой! – процедила Летти сквозь зубы.
– На джа… – медленно произнесла Улла. – Мне не хотелось бы говорить «Я тебя предупреждала», но…
– А почему бы не сказать? – вмешалась Кавита. – Меня шоколадом не корми, но дай уязвить кого-нибудь своим «Я тебя предупреждала». Говорю это Викраму по меньшей мере раз в неделю.
– А мне он нравится, – заметил Викрам. – Вы, наверно, не знаете, но он просто фантастический наездник. В седле – прямо Клинт Иствуд[46 — Клинт Иствуд (р. 1930) – американский киноактер и режиссер, прославившийся ролями в вестернах.], йаар. На прошлой неделе я видел его на пляже Чаупатти верхом. Он был там с этой сногсшибательной белокурой цыпочкой из Швеции. Он выглядел в точности как Клинт в «Бродяге высокогорных равнин», честное слово. Смертельный номер, блин.
– Ах, он умеет ездить верхом?! – фыркнула Летти. – Как же я могла так его недооценить? Беру свои слова обратно.
– И потом, у него дома есть первоклассный магнитофон, – продолжал Викрам, явно не замечая настроения Летти. – И отличные записи прямо с итальянских фильмов.
– Ну ладно, с меня хватит! – воскликнула Летти, поднимаясь и хватая сумочку и книгу, принесенную с собой.
Рыжие завитки волос вокруг ее лица в форме сердечка трепетали от возмущения. Бледная кожа, без единой морщинки обтягивавшая ее мягкие черты, в ярком белом освещении ресторана делала ее похожей на разгневанную мраморную мадонну, и я вспомнил слова Карлы: «Духовно Летти, пожалуй, богаче всех нас».
Тут же вскочил и Викрам:
– Я провожу тебя до гостиницы. Мне в том же направлении.
– Вот как? – бросила Летти, крутанувшись к Викраму так резко, что он захлопал глазами. – И что же это за направление?
– Ну… в общем… любое направление, йаар. Я люблю прошвырнуться вечером. Так что… куда ты, туда и я.
– Ну что ж, если тебе это так надо… – проскрежетала Летти, рассыпая голубые искры из глаз. – Карла, любовь моя, мы договорились завтра пить кофе в «Тадже», если не ошибаюсь? Обещаю на этот раз не опаздывать.
– Буду ждать, – отозвалась Карла.
– Счастливо всем! – помахала нам рукой Летти.
– Счастливо! – повторил Викрам, убегая вслед за ней.
– Знаете, что мне нравится в Летиции больше всего? – задумчиво протянул Дидье. – В ней нет абсолютно ничего французского. Наша французская культура настолько распространена и заразительна, что почти в каждом человеке на земле есть что-то от француза. Особенно в женщинах. Почти каждая из них – чуть-чуть француженка. А Летиция – самая нефранцузская женщина из всех, кого я знаю.
– Ты сегодня превзошел самого себя, Дидье, – заметила Кавита. – Что с тобой? Ты влюбился или, наоборот, разлюбил?
Дидье со вздохом посмотрел на свои руки, сложенные на столе одна поверх другой.
– Пожалуй, отчасти и то и другое. У меня сегодня черный день. Федерико – ты ведь знаешь его – обратился к вере. Для меня это тяжелый удар. По правде говоря, его внезапная праведность разбила мне сердце. Но хватит об этом. Вы знаете, в «Джехангире» открылась выставка Имитаз Дхаркер. Ее работы очень чувственны и полны необузданной энергии – в самый раз, чтобы встряхнуться. Кавита, не хочешь сходить со мной?
– Конечно, – улыбнулась девушка. – С удовольствием.
– Я пройдусь с вами до Регал-джанкшн, – сказала Улла, вздохнув. – Мне надо встретиться там с Моденой.
Они встали, попрощались с нами и вышли через арку, но затем Дидье вернулся, и, подойдя ко мне, положил руку мне на плечо, словно ища опору, и произнес с удивительной сердечностью:
– Поезжай с ним, Лин. Поезжай с Прабакером в его деревню. Каждый город на земле хранит в сердце память о деревне. Не поняв, чем живет деревня, ты не поймешь и города. Съезди туда. Когда вернешься, посмотрим, что Индия сделала с тобой. Bonne chance![47 — Успеха! (фр.)]
Он удалился, оставив меня наедине с Карлой. Когда с нами был Дидье и все остальные, в ресторане было шумно, теперь же вдруг наступила тишина – или, может быть, мне так показалось. Я не решался заговорить, боясь, что мои слова разнесутся эхом по всему залу от одного столика к другому.
– Ты покидаешь нас? – выручила меня Карла.
– Понимаешь, Прабакер пригласил меня съездить с ним в деревню к его родителям, на его родину, как он сказал.
– И ты поедешь?
– Да, наверное, поеду. Он оказал мне этим честь, как я понимаю. Он навещает родителей примерно раз в полгода вот уже девять лет, с тех пор как устроился на работу в Бомбее. Но я первый иностранец, которого он пригласил с собой.
Она подмигнула мне; в уголках ее рта прятался намек на улыбку.
– Возможно, ты и не первый, кого он пригласил, но первый, кто настолько свихнулся, что готов принять его приглашение. Впрочем, это не меняет сути.
– Ты считаешь, что я свихнулся, раз еду вместе с ним?
– Вовсе не поэтому! Во всяком случае, если ты и свихнулся, то в правильную сторону, как и все мы тут. А где его деревня?
– Не знаю точно. Где-то на севере штата. Он сказал, что туда надо добираться поездом, а потом двумя автобусами.
– Дидье прав. Тебе надо ехать. Если ты хочешь обосноваться здесь, в Бомбее, тебе надо сначала пожить какое-то время в деревне. Деревня – это ключ к Индии.
Мы сделали последний заказ проходившему мимо официанту, и спустя несколько минут он принес банановый йогурт для Карлы и чай для меня.
– А сколько времени понадобилось тебе, Карла, чтобы привыкнуть к Бомбею? Ты всегда держишься совершенно естественно, как в своей стихии. Как будто ты прожила здесь всю жизнь.
– Трудно сказать. Бомбей – именно то, что мне требуется. Я поняла это в первый же день, в первый же час, когда приехала сюда. Так что, в общем-то, и привыкать не надо было.
– Забавно, но я тоже сразу почувствовал что-то вроде этого. Уже через час после того, как наш самолет приземлился, у меня появилось ощущение, что это место как раз для меня.
– А полная акклиматизация пришла, я думаю, с языком. Когда мне стали сниться сны на хинди, я поняла, что это теперь мой дом. И тогда все стало на свои места.
– И ты по-прежнему так думаешь? Ты собираешься остаться здесь навсегда?
– Ничто никогда не бывает навсегда, – ответила она медленно, с характерной для нее рассудительностью.
– Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать.
– Ну да… Я проживу здесь до тех пор, пока не получу то, что мне надо. А тогда, возможно, уеду куда-нибудь еще.
– А что тебе надо, Карла?
Она нахмурилась и посмотрела на меня в упор. Это выражение в ее глазах было мне уже знакомо, оно означало: «У тебя, конечно, есть право задать этот вопрос, но нет права непременно получить на него ответ».
– Мне нужно все, – бросила она, слегка усмехнувшись. – Однажды я ответила так же одному моему другу, и он сказал, что секрет успеха в том, чтобы ничего не хотеть и получить то, что тебе надо.
Спустя некоторое время, пробравшись сквозь толпу на Козуэй и Стрэнде и пройдя под лиственными сводами пустынных улочек позади Колабского рынка, мы задержались у скамейки под развесистым вязом, растущим около ее дома.
– У меня сменилась вся система понятий, – вернулся я к нашему разговору в «Леопольде». – Это абсолютно новый угол зрения, новый способ восприятия мира.
– Да, ты прав. Именно так это происходило и у меня.
– Прабакер водил меня в один старый многоквартирный дом около больницы Святого Георгия, где находится что-то вроде хосписа. Дом был битком набит безнадежными больными, и все, что у них осталось, – это место на полу, где можно лечь и умереть. А владелец этого дома, который имеет репутацию чуть ли не святого, ходил среди умирающих, щупал их и знаками показывал своим помощникам, какие из органов человека жизнеспособны. Это огромное хранилище человеческих органов. За право умереть в чистом, спокойном месте, а не в придорожной канаве люди готовы предоставить этому типу свои органы по первому его требованию. И при этом они смотрят на него со слезами благодарности, чуть ли не с обожанием.
– Еще одно испытание, которому твой друг Прабакер решил подвергнуть тебя перед отъездом?
– Да, но было кое-что и похуже. И главное, что ты не можешь ничего сделать с этим. Видишь детей, которые… которым приходится очень несладко, видишь людей в трущобах – он сам живет в трущобах и водил меня туда… эта постоянная вонь из открытых уборных, беспросветная нищета, убогость… Они глядят на тебя из дверей своих лачуг, а ты понимаешь, что не в силах им помочь и что им не на что надеяться. Ты не можешь изменить это и вынужден успокаивать себя мыслью, что все могло быть гораздо хуже. Полная беспомощность.
– Знаешь, увидеть своими глазами все несовершенство мира очень полезно, – сказала Карла, помолчав. – И не менее важно иногда понимать, что, каким бы плохим ни было то, что ты видишь, ты не в силах улучшить это. В мире полно гадостей, которые не были бы такими гадкими, если бы кто-то в свое время не постарался исправить их.
– Как-то не хочется верить в это. Я знаю, конечно, что ты права. Очень часто, стремясь исправить что-либо, мы делаем только хуже. Но все же, если мы будем поступать правильно, мир, мне кажется, может измениться к лучшему.
– Между прочим, я сегодня столкнулась на улице с Прабакером. Он велел спросить тебя насчет каких-то водных процедур, так что я спрашиваю, хотя сама не понимаю о чем.
– А, ну да, – рассмеялся я. – Дело в том, что вчера, когда я спускался по лестнице, чтобы встретить около гостиницы Прабакера, мне навстречу попалась вереница индийских парней, тащивших на голове кувшины с водой. Я посторонился, чтобы пропустить их. На улице я увидел большую деревянную бочку на колесах, передвижную цистерну, так сказать. Один из индийцев доставал из бочки воду ведром и разливал ее по кувшинам. Я наблюдал за этим до бесконечности; ожидая Прабакера, парни успели сделать несколько ходок вверх и вниз. Когда Прабакер подошел, я спросил его, что они делают. Он объяснил, что они таскают воду для моего душа. На крыше установлен большой бак, и они наполняют его.
– Ну да, так всегда делается.
– Ты знаешь об этом, теперь и я знаю, но вчера это явилось для меня настоящим откровением. В этой жаре я залезаю под душ не меньше трех раз в день. Мне и в голову не могло прийти, что людям приходится подниматься с кувшинами на шесть лестничных пролетов, чтобы я мог ублажать себя. Я пришел в ужас и сказал Прабакеру, что больше ни за что и никогда не буду принимать душ в этой гостинице.
– А он что ответил?
– Он сказал, что я ничего не понимаю, что это их заработок. Если бы не туристы вроде меня, объяснил он, у этих индийцев не было бы работы. А им ведь надо содержать семью. Он настаивал, что я должен принимать душ три, четыре, пять раз в день.
Карла кивнула.
– Он велел мне посмотреть, как они покатят бочку. И я понял, что он хотел этим сказать. Это были сильные, здоровые парни, и они гордились тем, что занимаются делом, а не попрошайничают и не воруют. Они со своей бочкой влились в поток транспорта, высоко подняв голову и ловя на себе восхищенные взгляды индийских девушек.
– Так ты принимаешь теперь душ?
– Да, трижды в день, – рассмеялся я. – Но я хотел тебя спросить, за что Летти так взъелась на Маурицио?
Она опять посмотрела тяжелым взглядом прямо мне в глаза, уже вторично за этот вечер.
– У Летти налажены связи в Отделе регистрации иностранцев: один из крупных чиновников отдела питает слабость к сапфирам, и Летти поставляет их ему по оптовой цене или даже чуть ниже. И иногда, в обмен на эту… любезность, она имеет возможность помочь кому-нибудь продлить визу – почти бессрочно. Маурицио хотел продлить визу еще на год и притворился, что влюблен в Летти, – фактически соблазнил ее, – а получив, что ему требовалось, он ее бросил.
– Летти ведь твоя подруга…
– Я предупреждала ее. Маурицио не из тех мужчин, в которых можно влюбляться. С ним можно делать все, что угодно, но только не влюбляться.
– И все-таки он тебе нравится? Несмотря на то, что он так поступил с твоей подругой?
– Он поступил именно так, как я от него и ожидала. С его точки зрения, он провернул честную сделку – поухаживал за девушкой в обмен на визу. Со мной ему и в голову не пришло бы выкинуть что-нибудь подобное.
– Он что, боится тебя? – улыбнулся я.
– Да, я думаю, боится. Немножко. И это одна из причин, по которым он мне нравится. Я не смогла бы уважать человека настолько бестолкового, что он не боялся бы меня хоть чуть-чуть.
Она встала, я поднялся тоже. Ее зеленые глаза, повлажневшие в свете уличного фонаря, были драгоценными камнями, будящими желание. Губы приоткрылись в полуулыбке, которая принадлежала только мне одному, – это был мой момент, и мое сердце, неуемный попрошайка у меня в груди, с надеждой встрепенулось.
– Когда ты поедешь завтра с Прабакером в его деревню, – сказала она, – постарайся отдаться этому целиком. Просто… плыви по течению. В Индии надо иногда уступить, чтобы добиться своего.
– У тебя всегда наготове какой-нибудь благоразумный совет, да? – спросил я, усмехнувшись.
– Это не благоразумие, Лин. Благоразумие, на мой взгляд, значительно переоценивают, тогда как оно всего лишь та же рассудочность, из которой вытряхнули всю суть. Я не стремлюсь быть благоразумной. Большинство благоразумных людей, которых я знаю, действуют мне на нервы, но по-настоящему умные люди всегда привлекают меня. Если бы я хотела дать тебе благоразумный совет – чего я не хочу, – то я сказала бы: не напивайся, не кидай деньги на ветер и не влюбляйся в какую-нибудь деревенскую девчонку. Вот это было бы благоразумно. Но я предпочитаю просто разумное и потому рекомендую тебе не противиться ничему, с чем бы ты там ни столкнулся. Ну ладно, я пошла. Разыщи меня, когда вернешься. Мне хочется встретиться с тобой после этого, действительно хочется.
Она поцеловала меня в щеку и направилась к дому. Я подавил в себе желание схватить ее в объятия и прижать свои губы к ее губам. Я смотрел, как она идет; ее темный силуэт был частью самой ночи. Фонарь над дверью ее дома осветил ее теплым желтоватым светом, но мне казалось, что это мои глаза оживили ее тень, что это мое сердце наполнило ее бестелесную оболочку светом и красками любви. В дверях она обернулась, увидела, что я смотрю на нее, и мягко закрыла дверь за собой.
Я был уверен, что этот последний час с ней был моим тестом на «Борсалино». Всю дорогу до своей гостиницы я гадал, выдержал я испытание или нет. И сейчас, спустя много лет, я продолжаю гадать об этом. И по-прежнему не знаю ответа.
Глава 5
Длинная плоская лента платформы для поездов дальнего следования протянулась в бесконечность под высокими закругленными металлическими небесами вокзала Виктория. Херувимами этих архитектурных небес были голуби, порхавшие с одного карниза на другой в такой вышине, что разглядеть можно было лишь мельтешение каких-то бесплотных небожителей, сотканных из белого света. Огромный вокзал по праву славился великолепием своих башен и фасадов, украшенных замысловатым узором. Но особой, возвышенной красотой отличался его внутренний зал, напоминавший собор. Функциональность сочеталась здесь с художественной фантазией, и вечные ценности искусства приковывали к себе не меньшее внимание, чем сиюминутные заботы.
Целый час я сидел в куче нашего багажа, наваленного в начале платформы, с которой поезда отправлялись на север. Время шло к вечеру, и вокзал был заполнен людьми, их пожитками и разнообразными живыми или недавно умерщвленными сельскохозяйственными животными.
Прабакер уже в пятый раз оставил меня, бросившись в людскую круговерть между двумя соседними составами. Пять минут спустя он в пятый раз вернулся.
– Ради бога, Прабу, посиди спокойно.
– Мне нельзя сидеть спокойно, Лин.
– Ну, тогда пошли на поезд.
– И на поезд нельзя. Еще не наступило время идти на поезд.
– А когда же оно наступит?
– Я думаю, совсем очень недолго, почти скоро… Слушай, слушай!
Прозвучало какое-то объявление. Возможно, на английском. Оно было похоже на сердитое ворчание не вовремя разбуженного пьяного, многократно усиленное и искаженное конусообразными воронками древних громкоговорителей. Напряженное внимание, с каким Прабакер вслушивался в эти раскаты, сменилось выражением крайней муки.
– Давай, Лин! Скорее! Скорее! Нельзя здесь рассиживаться!
– Послушай, Прабу. Я вот уже час сижу здесь, как изваяние Будды, а теперь вдруг ни с того ни с сего надо нестись сломя голову?
– Да, баба. Оставь изваяние. Не до Будды сейчас – да простит меня его святость! Надо быстро-быстро торопиться. Он идет! Мы должны быть готовы! Видишь его? Он приближается!
– Кто приближается?
Прабакер вглядывался в толпу на платформе. Что бы ни значило прозвучавшее объявление, но оно мгновенно сорвало людей с места, и они ринулись к двум поездам, запихивая свои вещи и самих себя в двери и окна. Из этой суматохи вынырнул какой-то человек, шагавший в нашем направлении. Он был огромен – такие гиганты мне до сих пор почти не встречались, – метра два ростом, мускулистый, с длинной густой бородой, покоящейся на мощной груди. На нем была форма бомбейского носильщика – картуз, рубашка и шорты из грубой ткани цвета хаки с красными полосками.
– Он! – сказал Прабакер, глядя на гиганта с восхищением и ужасом. – Сейчас тебе надо идти с этим человеком, Лин.
Носильщик явно привык иметь дело с иностранцами и сразу взял быка за рога, вытянув ко мне обе руки. Я решил, что он хочет обменяться рукопожатием, и протянул ему свою, но он отпихнул ее с таким видом, который не оставлял сомнений, что он относится к подобным глупостям с крайним отвращением. Сунув руки мне под мышки, он приподнял меня и поставил в сторонку, дабы я не путался среди багажа. Когда ты весишь девяносто килограммов, а тебя вдруг без малейшего усилия поднимают в воздух, это приводит в некоторое замешательство, хотя в то же время и бодрит. В тот же момент я решил беспрекословно подчиняться этому носильщику, по возможности не роняя при этом собственного достоинства.
Гигант одной рукой ухватил мой тяжелый рюкзак, другой – сгреб остальные пожитки, а Прабакер тем временем затолкал меня носильщику в тыл и собрал в кулак его форменную рубашку в виде своего рода хвоста.
– Хватайся, Лин, – велел он мне. – Держись за эту самую рубашку и никогда ни за что не отпускай ее. Дай мне глубокое специальное обещание, что ты не отпустишь рубашку.
У него было настолько необычное для него выражение лица – крайне серьезное и озабоченное, что мне оставалось только кивнуть и взяться за рубашку.
– Нет, Лин! Дай обещание словами. Скажи: «Я никогда больше не отпущу эту рубашку». Скорее!
– О господи! Ну хорошо. Я никогда больше не отпущу эту рубашку. Ты удовлетворен?
– До свидания, Лин! – вскричал вдруг Прабакер и, вклинившись в толпу, затерялся в ней.
– То есть как? Куда ты, Прабу? Прабу!
– Ладно, идем, – пророкотал носильщик голосом, который он раздобыл не иначе как в медвежьей берлоге и долго выдерживал в жерле какого-то ржавого старинного орудия.
Он врезался в толчею, таща меня на буксире, высоко задирая могучие колени и пиная ими окружающих. Люди рассыпа`лись перед его коленями во все стороны. Если они не рассыпа`лись сами, их отбрасывало.
Извергая проклятия, угрозы и оскорбления, носильщик прокладывал путь сквозь людскую массу. Вокруг стоял невообразимый шум – я, казалось, кожей ощущал, как вибрирует воздух. Люди вопили так, будто очутились в центре какого-то ужасного катаклизма. Над их головами ревели что-то невразумительное громкоговорители. Со всех сторон раздавались свистки, гудки и звонки.
Мы остановились перед одним из вагонов, который, подобно всем остальным, был заполнен до отказа. Двери были наглухо забиты человеческими ногами, торсами и головами. В изумлении и немалом смущении я прилепился к носильщику, продолжавшему орудовать своими неутомимыми и несокрушимыми коленями с таким же успехом, как и на платформе.
Наше победное шествие прекратилось лишь в самой середине вагона. Я решил, что человеческая масса оказалась здесь слишком плотной даже для этого Джаггернаута[48 — Джаггернаут – статуя бога Кришны, вывозимая на ежегодном празднестве.], и еще крепче вцепился в его рубашку, страшась отстать от него. Он заворочался, и сквозь несмолкающий рев толпы я вдруг услышал чей-то голос, повторявший, как настойчивое жалобное заклинание: «Сарр… Сарр… Сарр… Сарр…»
Наконец до меня дошло, что голос принадлежит моему носильщику, а слово, которое он повторяет с таким отчаянием, – «сэр». Я не сразу понял это, потому что ко мне давно уже никто так не обращался.
Отпустив его рубашку, я огляделся и увидел Прабакера, распластавшегося на скамейке во всю ее длину. Он с боем прорвался в вагон одним из первых, чтобы занять для нас места, и охранял их всем своим телом. Переплетя ноги вокруг подлокотника со стороны прохода, руками он вцепился в подлокотник с противоположной стороны. С полдюжины мужчин, набившихся в купе, всеми силами старались оторвать его от сиденья. Они тянули и дергали его, таскали за волосы и колотили по лицу. Прабакер не мог защититься от них, но, когда он увидел меня, торжествующая улыбка пробилась на его лице сквозь гримасу боли.
Я в остервенении раскидал мужчин, хватая их за рубашки и отбрасывая в сторону с силой, какую наши руки приобретают в минуты праведного гнева. Прабакер спустил ноги на пол, и я сел рядом с ним. Тут же началась потасовка за третье освободившееся место. Носильщик сгрузил багаж у наших ног. Его лицо, волосы и рубашка были мокрыми от пота. На прощание он кивнул Прабакеру с глубоким уважением. Не менее глубоким было и презрение, сквозившее во взгляде, которым он окинул меня. Затем он стал протискиваться к выходу, понося на чем свет стоит всех, кто попадался на его пути.
– Сколько ты заплатил этому типу?
– Сорок рупий, Лин.
Сорок рупий. Носильщик протащил сквозь толпу весь наш багаж вместе со мной за каких-то два американских доллара.
– Сорок рупий?
– Да, Лин, – вздохнул Прабакер. – Я понимаю, это очень много. Но такие замечательные колени дорого стоят. Они очень хорошо знамениты, его колени. На вокзале был целый конкурс за его колени среди гидов. Но я убедил его помочь нам, потому что я сказал ему, что ты… не знаю, как это правильно будет по-английски… ну, что у тебя не совсем хорошая голова.
– Это называется «умственно отсталый». Ты сказал ему, что я умственно отсталый?
– Нет-нет! – ответил Прабакер, всесторонне обдумав это выражение. – Наверное, надо перевести это как «дурачок».
– Значит, ты сказал ему, что я дурачок, и тогда он согласился перенести наши вещи?
– Да, – ухмыльнулся он. – Но не простой дурачок, а очень, очень-очень большой.
– Понятно…
– Так что он назначил по двадцать рупий за каждое колено, и вот теперь у нас есть хорошие места.
– А с тобой-то все в порядке? – спросил я, сердясь на то, что ему пришлось страдать ради моего удобства.
– Да, баба. Несколько синяков будут у меня на теле, но ничего не сломалось.
– Но какого черта ты затеял всю эту катавасию, скажи на милость? Я дал тебе деньги на билеты. Мы могли бы ехать первым или вторым классом, как цивилизованные люди, а не тесниться здесь.
Прабакер посмотрел на меня с упреком, его большие темно-карие глаза переполняло разочарование. Вытащив из кармана несколько банкнот, он вручил их мне:
– Это сдача за билеты. Любой может купить билеты в первый класс, Лин. Если ты хочешь купить билеты в первый класс, ты можешь сделать это абсолютно сам. Для того чтобы купить билеты в комфортабельный пустой вагон, тебе не нужен бомбейский гид. А вот чтобы достать хорошие места в обычном вагоне, нужен очень отличный бомбейский гид вроде меня, Прабакера Кишана Харре. Это моя работа.
– Ну разумеется, – отозвался я, слегка оттаяв, хотя и не до конца, поскольку чувствовал себя виноватым перед ним. – Но пожалуйста, не надо больше нарываться на избиение ради хороших мест, ладно?
Он сосредоточенно нахмурился, обдумывая мои слова. Наконец обычная широкая улыбка осветила его лицо в полумраке вагона.
– Хорошо, но если избиение будет абсолютно нужно, – выдвинул он свое условие трудового договора, – то я буду кричать очень громко, и ты сможешь быстро спасти меня от синяков. Договорились?
– Договорились, – вздохнул я, и в этот момент состав неожиданно дернулся и стал выползать с вокзала.
Стоило поезду тронуться с места, как все распри и стычки прекратились, и воцарилась атмосфера подчеркнутой любезности и благовоспитанности, сохранявшаяся до самого конца путешествия.
Мужчина, сидевший напротив меня, случайно задел мою ногу своей – самым краешком ступни, я едва заметил это, – но он тут же коснулся рукой моего колена и приставил кончики пальцев правой руки к своей груди – этот индийский жест означает извинение за ненамеренно причиненное неудобство. Точно с таким же уважением, вниманием и заботой обращались друг к другу пассажиры во всем вагоне.
В ту первую вылазку из города я был возмущен столь внезапной показной вежливостью после бешеной драки при посадке. Беспокойство из-за легкого толчка ногой казалось сущим лицемерием после того, как всего несколько минут назад люди были готовы повыбрасывать друг друга из окна.
Но теперь, совершив очень много поездок в переполненных провинциальных поездах, я понимаю, что ожесточенная схватка за место в вагоне и учтивая предупредительность – проявления одной и той же философии, основанной на принципе необходимости. Для посадки на поезд требовалось столько же физических усилий и агрессивности, сколько вежливости и обходительности необходимо было для того, чтобы сделать путешествие в тесноте по возможности приятным. Что необходимо в данный момент? Вот вопрос, который не высказывается, но неизбежно подразумевается в Индии повсюду. Когда я осознал это, мне стали ясны и многие характерные черты индийской общественной жизни, ставившие меня прежде в тупик: и то, что городские власти смотрят сквозь пальцы на неудержимо разрастающиеся трущобы и на обилие попрошаек на улицах; и свобода передвижения, предоставленная коровам на самых оживленных городских магистралях; и необыкновенно сложная бюрократическая система; и откровенный роскошный эскапизм болливудских фильмов; и готовность страны, перегруженной собственными тяготами, принять сотни тысяч тибетских, иранских, афганских, африканских и бангладешских беженцев.
Подлинные лицемеры, понял я, – это те, кто критикует индийские порядки, приехав из благополучной страны, где нет необходимости драться из-за места в вагоне. Даже в ту первую поездку по стране я в глубине души знал, что Дидье был прав, когда сравнивал перенаселенную Индию с Францией. Интуитивно я чувствовал, что если поселить на таком ограниченном пространстве миллиард французов, австралийцев или американцев, то схватка при посадке в поезд будет гораздо ожесточеннее, а отношения между пассажирами в пути – намного прохладнее.
И эта взаимная предупредительность индийских крестьян, коммивояжеров и тех, кто разъезжал в поисках работы или возвращался к своим близким, действительно делала путешествие вполне приемлемым, несмотря на тесноту и все возраставшую жару. Каждый сантиметр свободного пространства, включая большие металлические полки для багажа над нашими головами, был занят сидящими людьми. Те, кто стоял в проходе, по очереди освобождали друг другу место, отведенное на полу для сидения и очищенное от мусора. К каждому пассажиру прижимались по меньшей мере двое других, но никто не жаловался и не ворчал. Я уступил свое место на четыре часа пожилому человеку с копной белых волос. Он был в очках с такими толстыми линзами, какие вставляются в бинокли армейских разведчиков. Мой поступок вызвал возмущенный протест со стороны Прабакера:
– Я так сильно дрался с хорошими людьми за место для тебя, Лин, а ты отдаешь его так запросто, будто выплевываешь пережеванный пан, и стоишь в проходе, да еще прямо на ногах.
– Но послушай, Прабу, это же пожилой человек, я не могу сидеть, когда он стоит рядом.
– Эту проблему очень легко решить, Лин. Ты просто не смотри, как он стоит рядом. Если он стоит – это его дело, а твоего сидячего места это не касается.
– Я так не могу, – возразил я, смущенно посмеиваясь.
Прабакер оглашал свои претензии на весь вагон, с любопытством внимавший ему.
– Шесть синяков и царапин насчитал я на своем туловище, Лин, – хныкал он, взывая не только ко мне, но и ко всей заинтересованной аудитории. Приподняв рубашку и майку, он продемонстрировал нам большую ссадину и наливающийся кровоподтек. – Ради того чтобы этот старик пристроил свою левую ягодицу на сиденье, я приобрел эти серьезные раны. А ради того, чтобы он разместил на скамейке и свою правую ягодицу, я пострадал и с другого бока. Я весь побит и расцарапан ради размещения его двусторонних ягодиц. Это самый позор, Лин, вот что я тебе скажу. Это самый позор.
Он обстоятельно выразил свою горькую мысль на хинди и на английском, пока все без исключения не усвоили ее. Все наши попутчики глядели на меня набычившись и укоризненно качали головой. Но самым негодующим взглядом меня наградил, разумеется, старик, которому я уступил место. Он гневно взирал на меня все четыре часа, пока сидел на моем месте. Когда поезд прибыл на его станцию, он встал и отпустил в мой адрес такое непристойное выражение, что весь вагон покатился от хохота, а двое соседей сочувственно похлопали меня по плечу.
Поезд трясся всю долгую ночь до рассвета, окутавшего нас светом, напоминавшим лепестки роз. Я смотрел и слушал, находясь в полном смысле слова в гуще народных масс, жителей провинциальных городов и деревень. И за эти четырнадцать часов, которые я провел в вагоне для бедных, общаясь с ними без посредства языка, я узнал гораздо больше, чем мог бы узнать за месяц путешествия первым классом.
Больше всего в ту первую поездку меня порадовало, что я наконец-то полностью разобрался во всех нюансах знаменитого индийского покачивания головой. К тому моменту я уже усвоил, что мотание головой из стороны в сторону – самый распространенный жест в Индии – эквивалентно нашему киванию и означает «да». Я научился различать и такие его варианты, как «Я согласен с вами» и «Я не против». В поезде же я узнал, что этот жест повсеместно применяется в качестве приветствия, и это открытие оказалось чрезвычайно полезным.
Большинство людей, входивших в вагон на промежуточных станциях, приветствовали пассажиров покачиванием головы, и неизменно кто-нибудь отвечал им таким же покачиванием. Это не могло быть знаком согласия или подтверждения, потому что ничего еще не было сказано. И я понял, что это был дружелюбный сигнал, означавший «Я мирный человек», «У меня добрые намерения».
Восхищенный этим замечательным жестом, я решил опробовать его. Поезд остановился на какой-то маленькой станции, и к нам присоединился новый пассажир. Когда наши глаза встретились, я улыбнулся ему и слегка покачал головой. Результат превзошел все мои ожидания. Человек расплылся в широчайшей улыбке, которая почти сравнялась с сияющей улыбкой Прабакера, и стал так энергично мотать головой, что я сначала даже испугался, не перестарался ли я. К концу путешествия, однако, я приобрел достаточный опыт и воспроизводил этот жест с такой же непринужденностью, как и другие. Это было первое чисто индийское выражение чувств, которому научилось мое тело, и это путешествие среди тесно сгрудившихся человеческих сердец положило начало постепенному многолетнему преобразованию всей моей жизни.
Мы сошли с поезда в Джалгаоне, окружном центре, гордившемся своими широкими улицами, на которых бурлила городская жизнь и процветала коммерция. Было девять часов, утренний прилив деловой активности сопровождался большим шумом и суетой. С железнодорожных платформ сгружали всевозможные материалы – лес, железо, стекло, пластмассу, ткани. К станции подвозили для отправки в другие города товары местного производства, начиная с гончарных изделий и заканчивая одеждой и сотканными вручную циновками.
Желудок мой заурчал, почувствовав аромат свежей пряной пищи, но Прабакер потащил меня на автобусный вокзал. Вокзал представлял собой большую утрамбованную площадку, на которой столпились десятки автобусов дальнего следования. Мы примерно час мотались от одного автобуса к другому, таская за собой наш объемистый багаж. Я не мог прочитать таблички на хинди и маратхи, прикрепленные на передних и боковых стенках автобусов, а Прабакер, естественно, мог, но почему-то считал необходимым выяснять у каждого водителя лично, куда он направляется.
– Разве ты не можешь просто прочитать, что написано на табличке? – не выдержал я наконец.
– Конечно могу, Лин. На этом автобусе написано «Аурангабад», на том – «Аджанта», на том – «Чалисгаон», на том…
– Ну так почему же надо спрашивать водителя, куда он едет?
– Как «почему»? – изумленно воскликнул он. – Потому что многие надписи неправильные.
– Что значит «неправильные»?
Он положил свой багаж на землю и улыбнулся снисходительно и терпеливо:
– Понимаешь, Лин, некоторые водители ведут свой автобус туда, куда никто не хочет ехать. Это маленькие деревушки, где мало жителей. Поэтому они вывешивают название какого-нибудь более популярного места.
– Ты хочешь сказать, что водитель вывешивает табличку с названием города, куда многие хотят попасть, а на самом деле повезет их совсем в другое место, куда никому не надо?
– Ну да, Лин, – просиял он.
– Но почему?
– Понимаешь, когда к нему сядут люди, которые хотят ехать в популярное место, он постарается уговорить их поехать вместо этого в непопулярное. У него такой бизнес. Это бизнес, Лин.
– Это черт знает что, а не бизнес, – буркнул я.
– Ты должен снизойти к ним симпатией, Лин, к этим водителям. Если они повесят правильную табличку, никто не подойдет к ним поговорить за весь день, и им будет очень одиноко.
– Ну, теперь все понятно, – саркастически бросил я. – Мы болтаемся тут от автобуса к автобусу для того, чтобы водителям не было скучно.
– Я же знал, Лин, что ты поймешь. У тебя очень доброе сердце в твоем туловище.
Наконец мы выбрали один из автобусов, вроде бы направлявшийся в популярное место. Водитель и его помощник расспрашивали всех входящих, куда они едут, и лишь после этого впускали их, позади сажая тех, чей пункт назначения был дальше, остальных ближе к водителю. Проход между сиденьями быстро заполнялся детьми, домашними животными и багажом, который складывался до высоты наших плеч. В конце концов людям пришлось тесниться по трое на скамейках, предназначенных для двоих.
Я сидел у прохода и активно участвовал в воздушной транспортировке грузов поверх загроможденного прохода, передавая спереди назад все, что ехало далеко, – от багажа до детей. Молодой крестьянин, собравшийся было передать мне свои вещи, заколебался, увидев мои серые глаза, но, когда я улыбнулся ему и покачал головой из стороны в сторону, он ухмыльнулся в ответ и доверил мне свой скарб. Вскоре все окружающие улыбались мне и качали головой, и я в ответ мотал и крутил своей, пока автобус не тронулся.
Объявление над головой водителя, написанное большими красными буквами на английском и маратхи, извещало всех, что в автобусе категорически запрещается перевозить больше сорока восьми пассажиров. Но никого, похоже, не беспокоило, что в салон набилось человек семьдесят с двумя или тремя тоннами багажа. Старый «бедфорд» тяжело покачивался на изношенных рессорах, как буксир в штормовую погоду. Его пол, потолок и стены угрожающе скрипели и стонали, а тормоза взвизгивали всякий раз, когда на них нажимала нога водителя. Тем не менее, выехав за город, он ухитрился увеличить скорость до восьмидесяти-девяноста километров в час. Дорога была узкая, с одной стороны она переходила в крутой откос, с другой – постоянно попадались бредущие навстречу нам группы людей и животные; водитель же лихо кидал наш перегруженный ковчег в головокружительную атаку на каждый поворот. Понятно, что скучать по пути было некогда, не говоря уже о том, чтобы соснуть.
За три часа этой рискованной гонки мы взобрались на гребень горного кряжа, за которым простиралось обширное плато, часть Деканского плоскогорья, и спустились с другой стороны в плодородную долину. Возблагодарив Бога за то, что Он сохранил нам жизнь, и в полной мере оценив этот хрупкий дар, мы с Прабакером высадились возле какого-то потрепанного флажка, свисавшего с чахлого деревца. Место было глухое, пыльное и заброшенное. Но не прошло и часа, как появился другой автобус.
– Гора каун хайн? – поинтересовался водитель, когда мы вскарабкались на подножку. – Что это за белый?
– Маза митра ахей, – отвечал Прабакер, тщетно пытаясь скрыть свою гордость под напускным безразличием. – Это мой друг.
Разговор происходил на маратхи, языке штата Махараштра, столицей которого является Бомбей. В тот момент я не многое понял из этого разговора, но в течение следующих месяцев, проведенных в деревне, я так часто слышал те же самые вопросы и ответы, что выучил большинство их наизусть.
– Что он тут делает?
– Он едет ко мне в гости.
– Откуда он?
– Из Новой Зеландии.
– Из Новой Зеландии?
– Да. Это в Европе, – пояснил Прабакер.
– В этой Новой Зеландии много денег?
– Да, полно. Они там купаются в золоте.
– Он говорит на маратхи?
– Нет.
– А на хинди?
– Тоже нет. Только на английском.
– Только на английском?
– Да.
– Почему?
– В его стране не говорят на хинди.
– Они не умеют говорить на хинди?
– Нет.
– Ни на хинди, ни на маратхи?
– Нет. Только на английском.
– Господи помилуй! Вот идиоты несчастные!
– Да.
– Сколько ему лет?
– Тридцать.
– А выглядит старше.
– Они все так выглядят. Все европейцы на вид старше и сердитее, чем на самом деле. У белых всегда так.
– Он женат?
– Нет.
– Тридцать лет, и не женат? Что с ним такое?
– Он из Европы. Там многие женятся только в старости.
– Вот ненормальные!
– Да.
– А какая у него профессия?
– Он учитель.
– Учитель – это хорошо.
– Да.
– У него есть родители?
– Да.
– А где они?
– На его родине. В Новой Зеландии.
– А почему он не с ними?
– Он путешествует. Знакомится с миром.
– Зачем?
– Все европейцы так делают. Они немного работают, а потом немного ездят в одиночестве, без семьи, пока не состарятся. А тогда они женятся и становятся очень серьезными.
– Вот ненормальные!
– Да.
– Ему, наверно, одиноко без мамы с папой, без жены и детей.
– Да. Но европейцев это не огорчает. Они привыкли быть одинокими.
– Он большой и сильный.
– Да.
– Очень сильный.
– Да.
– Корми его как следует и не забывай давать побольше молока.
– Да.
– Буйволова молока.
– Ну да.
– И следи, чтобы он не научился каким-нибудь нехорошим словам. Не учи его ругательствам. Вокруг полно долбаных засранцев, которые захотят научить его всякому дерьму. Не давай ему водиться с этими долбогрёбами.
– Не дам.
– И не позволяй никому обмануть его. Он на вид не очень-то смышленый. Присматривай за ним.
– Он умнее, чем кажется, но я все равно буду присматривать за ним.
Никого из пассажиров не волновало, что водитель, вместо того чтобы продолжить путь, вот уже минут десять болтает с Прабакером. Возможно, потому, что они говорили громко и все до одного в автобусе могли их слышать. Мало того, водитель и по пути старался поставить всех встречных в известность о необычном пассажире. Завидев на дороге пешехода, он гудком привлекал его внимание и указывал ему пальцем на эту диковину, а затем замедлял ход, чтобы человек мог ее разглядеть и полностью удовлетворить свое любопытство.
Из-за того, что водитель делился удивительной новостью со всеми встречными, путь, который можно было проделать за час, занял целых два, и лишь к вечеру мы достигли пыльного проселка, ведущего к деревушке Сундер. Когда автобус, натужно стеная, укатил, наступила такая тишина, что слышно было ветерок, шелестевший в ушах, подобно сонному шепоту ребенка. Весь последний час мы ехали по необъятным просторам, засаженным кукурузой, среди которой попадались банановые рощи; теперь же мы тащились пешком по грязи меж нескончаемых зарослей просяных культур. Растения уже поднялись во весь свой рост и были выше нашей головы, небо сжалось в узенькую полоску, а дорога впереди и позади нас терялась в сплошной золотисто-зеленой массе, так что мы пробирались словно по лабиринту, отгороженные этой живой стеной от остального мира.
Мне довольно долго не давало покоя какое-то смутное ощущение, никак не поддававшееся осмыслению. Наконец до меня дошло. Нигде не было видно никаких столбов – ни телеграфных, ни высоковольтных, – даже вдали.
– Прабу, в вашей деревне есть электричество?
– Нет, – ухмыльнулся он.
– Совсем нет электричества?
– Нет, ни капельки.
Некоторое время я молчал, отбрасывая мысленно одно за другим все полезные устройства. Электрического освещения нет. Электрического чайника нет. Телевизора, радио, стереосистемы тоже нет. Никакой музыки. А я даже кассетника с собой не захватил. Как же я буду жить без музыки?
– Как же я буду жить без музыки? – посетовал я вслух, не в силах сдержать разочарования, хоть и понимал, что выгляжу довольно смешно.
– Музыки будет полно, баба! – жизнерадостно откликнулся Прабакер. – Я буду петь. И все остальные будут петь. Петь и петь, без конца.
– Ну, ты меня успокоил.
– И ты тоже будешь петь.
– Нет уж, на меня, пожалуйста, не рассчитывай.
– В деревне все поют, – подчеркнул он, неожиданно посерьезнев.
– Угу.
– Да-да, все.
– Давай решим хоровые проблемы, когда они возникнут. Нам еще далеко до деревни?
– О, совсем почти не очень далеко. А знаешь, теперь у нас в деревне есть вода.
– Что значит «теперь есть вода»?
– Ну, теперь в деревне есть кран.
– Один кран на всю деревню?
– Да, и вода из него идет целый час, с двух до трех каждый день.
– Один час в день?!.
– Да. Обычно. Иногда она идет полчаса, а иногда совсем не идет. Тогда мы лезем в колодец, убираем зелень, которая там выросла, и вода снова без проблем. А! Смотри, вон мой папа.
Впереди нас на неровной, заросшей сорняками дорожке показалась высокая повозка в форме корзины на двух деревянных колесах с металлическими ободами, в которую был впряжен огромный светло-коричневый буйвол с изогнутыми рогами. Колеса были узкими, но высокими и доходили мне до плеч. На упряжной дуге восседал, болтая ногами и покуривая биди[49 — Биди – самодельные индийские сигареты из необработанного табака, завернутого в лист тембурни.], отец Прабакера.
Кишан Манго Харре уступал в росте даже своему сыну, его седые волосы и усы были очень коротко подстрижены, а на худенькой фигуре заметно выделялся круглый животик. На нем были белый картуз, хлопчатобумажная рубашка и крестьянская набедренная повязка. Хотя ее принято называть повязкой, но это слово не передает естественного и подкупающего изящества этого одеяния. Его можно подобрать кверху, превратив в рабочие шорты, или распустить, и тогда оно становится панталонами, доходящими до лодыжек. Набедренная повязка очень подвижна и повторяет контуры человеческого тела, бежит ли он или сидит спокойно. В жаркий полдень она улавливает малейшее дуновение ветерка, а ночью защищает от предрассветного холода. Она непритязательна и практична и в то же время привлекательна и приятна. Ганди прославил набедренную повязку на весь мир, когда ездил в Европу с целью добиться независимости Индии от Англии. При всем уважении к Ганди, однако, следует отметить, что, лишь пожив и поработав бок о бок с индийскими крестьянами, ты можешь в полной мере оценить неназойливую и благородную красоту этого простого куска ткани.
Прабакер выпустил из рук поклажу и кинулся к отцу. Отец спрыгнул со своего насеста, и они застенчиво обнялись. Кишан был единственным человеком, чью улыбку можно было сравнить с улыбкой его сына. Она занимала все его лицо от уха до уха, словно навсегда застыв в тот момент, когда человека охватил гомерический хохот. Оба Харре обернулись ко мне, и две гигантские улыбки – отцовская и ее генетическая копия – представляли настолько ошеломляющее зрелище, что я в ответ смог лишь беспомощно ухмыльнуться.
– Лин, это мой отец Кишан Манго Харре. Папа, это мистер Лин. Я так счастлив, так счастлив, что две ваши личности встретились.
Мы обменялись рукопожатием и посмотрели друг другу в глаза. У старшего Харре было такое же абсолютно круглое лицо и такой же вздернутый нос пуговкой, как и у младшего. Но если гладкая и открытая физиономия Прабакера была абсолютно бесхитростной, то лицо его отца было изборождено глубокими морщинами, и на него набегала тень усталости, когда Кишан не улыбался. Он как будто закрывал какие-то двери в свой внутренний мир, оставляя на страже лишь глаза. В нем чувствовалась гордость, но также и печаль, усталость, беспокойство. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что крестьяне повсюду так же горды, печальны, усталы и обеспокоены, потому что все, что есть у тех, кто живет на земле, – это почва и семена для посева. И порой – слишком часто – они не получают от жизни ничего, кроме молчаливой, таинственной и волнующей радости, которой Господь наделяет все, что цветет и растет, дабы помочь человеку преодолеть страх перед угрозой голода и несчастья.
– Мой папа очень удачный человек, – заявил Прабакер гордо, обнимая отца за плечи.
Поскольку я практически не говорил на маратхи, а Кишан совсем не говорил по-английски, Прабакеру приходилось быть переводчиком. Услышав слова сына, Кишан абсолютно естественным грациозным жестом поднял рубашку и, похлопав себя по волосатому животику, произнес какую-то фразу. Глаза его при этом блестели, а улыбка была, на мой взгляд, призывной и плотоядной.
– Что он сказал?
– Он хочет, чтобы ты пошлепал его по животу, – ухмыльнулся Прабакер.
Кишан выжидательно улыбался.
– Ты сочиняешь.
– Нет-нет, Лин, он вправду хочет, чтобы ты пошлепал его по животу.
– Нет.
– Но он действительно этого хочет!
– Скажи ему, что я польщен и что животик у него замечательный, но от пошлепывания я воздержусь.
– Ну совсем немножко, Лин!
– Нет, – сказал я твердо.
Улыбка Кишана стала еще шире; он несколько раз призывно приподнял брови, продолжая держать подол рубашки под мышками.
– Давай, Лин! Всего несколько шлепков. Его животик не кусается.
«В Индии надо иногда уступить, чтобы добиться своего», – сказала Карла. И она была права. Постоянными уступками проникнута вся жизнь в этой стране. Я сдался. Оглянувшись на пустынную дорожку, я протянул руку и пошлепал теплый волосатый животик.
И разумеется, в ту же секунду высокие зеленые колосья рядом с нами раздвинулись и из них высунулись четыре смуглые юные физиономии. Юнцы таращились на нас в изумлении, к которому примешивались испуг и презрение, а также несомненный восторг.
Я медленно, с подчеркнутым достоинством убрал руку. Кишан посмотрел на меня, на зрителей, приподнял одну бровь, и уголки его рта растянулись в самодовольной улыбке прокурора, закончившего свою обвинительную речь.
– Не хочется мешать твоему папе наслаждаться моментом, Прабу, но не пора ли нам двигаться дальше?
– Чало! – объявил Кишан, отгадав смысл произнесенной мною фразы. – В путь!
Когда мы забросили в корзину свои пожитки и забрались туда сами, Кишан опять взгромоздился на дугу, приподнял длинную бамбуковую палку с гвоздем на конце и изо всей силы ударил ею буйвола по бедрам.
Повинуясь удару, буйвол напрягся и тяжело тронулся с места. Мы так медленно продвигались вперед, что у меня невольно возник вопрос, почему в повозку решили запрячь именно это животное? Похоже, индийские буйволы, известные как баиле, были самыми медленными тягловыми животными в мире. Пешком, даже нога за ногу, я шел бы вдвое быстрее. Молодежь, глазевшая на нас из зарослей, успела убежать далеко вперед, чтобы предупредить деревню о нашем прибытии.
Заросли проса стали перемежаться посадками кукурузы и других злаков, и среди всех этих растений то и дело появлялись все новые лица, одинаково таращившие глаза в полном и откровенном изумлении. Вряд ли оно было бы больше, если бы Прабакер со своим родителем привезли в деревню пойманного ими в лесу и обученного грамоте медведя.
– Они так счастливы! – смеялся Прабакер. – Ты первый человек из заграницы, который совершил визит в нашу деревню за последний двадцать один год. Перед тобой приезжал только один иностранец из Бельгии, двадцать один год назад. Все жители, кому меньше двадцати одного года, никогда не видели живого иностранца. Тот иностранец из Бельгии был хорошим парнем. А ты очень, очень хороший парень, Лин. Люди будут тебя слишком много любить. Ты будешь здесь так счастлив, просто вне себя. Вот увидишь.
Однако у тех, кто наблюдал за мной, прячась среди сельскохозяйственных культур, вид был скорее встревоженный, нежели счастливый. Дабы развеять их тревоги, я решил попрактиковаться в недавно освоенном мною искусстве покачивания головой. Все тут же стали улыбаться, хохотать, мотать головой и послали гонцов вперед рассказать односельчанам о забавном клоуне, который медленно приближается к ним по дороге.
Чтобы буйволу не вздумалось остановиться по пути, отец Прабакера то и дело колошматил его. Каждые несколько минут палка поднималась и звонко хлопала животное по крупу острым гвоздем, выдиравшим из него пучки светло-коричневой шерсти.
Бык никак не реагировал на эти удары и продолжал медленно волочить повозку по тропе. Тем не менее мне было очень жалко его. С каждым ударом мое сочувствие к животному возрастало, и наконец я не выдержал:
– Прабу, сделай одолжение, скажи своему отцу, чтобы он перестал бить быка.
– Чтобы он… перестал бить?!
– Да, пожалуйста, попроси его, чтобы он не бил буйвола.
– Нет, Лин, это невозможно, – рассмеялся Прабакер.
В этот момент палка с гвоздем опять взметнулась в воздух и опустилась со шлепком.
– Я говорю серьезно, Прабу. Пожалуйста, попроси его.
Очередной удар заставил меня передернуться, и страдальческое выражение на моем лице возымело свое действие.
Прабакер неохотно передал мою просьбу отцу. Кишан внимательно выслушал его и разразился неудержимым смехом. Однако, видя, что сын расстроен, он умерил свое хихиканье, а затем совсем его прекратил и засыпал Прабакера вопросами. Тот старался как мог объяснить отцу ситуацию, все больше мрачнея при этом, и наконец обратился ко мне:
– Лин, папа спрашивает, почему ты хочешь, чтобы он перестал бить буйвола?
– Я не хочу, чтобы он причинял ему боль.
Прабакер рассмеялся, а когда он перевел мои слова отцу, тот присоединился к нему. Между приступами смеха они переговаривались, после чего Прабакер снова повернулся ко мне:
– Папа спрашивает, правда ли, что в вашей стране люди едят коров?
– Да, конечно, но…
– Сколько коров вы едите?
– Ну… Мы не всех их съедаем сами, часть мы экспортируем в другие страны.
– Сколько?
– Ну сколько-сколько… Да сотни тысяч, а вместе с овцами – миллионы. Но мы стараемся обходиться с ними гуманно и не мучим их напрасно.
– Папа думает, что нельзя съесть такое большое животное, не причинив ему боли.
После этого он стал объяснять отцу, что я за человек, и рассказал ему о том, как я уступил свое место в поезде старику, как я делился с соседями фруктами и другой едой и как я постоянно раздаю милостыню нищим на улицах.
При этих словах Кишан неожиданно остановил буйвола и, соскочив на землю, разразился серией каких-то команд. Прабакер перевел их мне:
– Папа спросил, везем ли мы подарки для него и для всей семьи? Я сказал ему, что мы везем подарки, и он хочет, чтобы мы отдали ему подарки здесь и сейчас.
– Он хочет, чтобы мы распаковали свой багаж прямо здесь, на дороге?
– Да. Он боится, что, когда мы приедем в Сундер, у тебя будет слишком доброе сердце и ты раздашь подарки всей деревне, а ему ничего не останется. Поэтому он хочет получить их сейчас.
Пришлось подчиниться. Под покровом темнеющего синего неба мы расцветили прогалину меж колышущихся нив излюбленными индийскими красками, разложив желтые, красные и переливчато-синие рубашки, сари и набедренные повязки. После этого мы уложили все в одну сумку вместе с благоухающими кусками мыла, шампунями, духами, благовониями и массажными маслами, а также швейными иглами и английскими булавками. Когда сумка была надежно пристроена рядом с Кишаном Манго Харре среди упряжи, он повез нас дальше, причем колотил безропотного буйвола еще сильнее и чаще, чем до моей попытки вступиться за животное.
Наконец послышались голоса женщин и детей, смех и возбужденные крики, и, сделав последний поворот, мы выехали на широкую и единственную в деревне улицу, усыпанную утрамбованным и чисто подметенным золотистым речным песком. По обеим сторонам улицы тянулись дома, при этом ни один из них не стоял прямо против другого. Сооруженные из бледно-коричневой глины, дома имели круглую форму, круглые окна и изогнутые двери. На крышах высились небольшие купола из переплетенных стеблей трав.
Весть о приезде иностранца распространилась по всей округе, и к двум сотням жителей Сундера присоединилось еще несколько сотен из окрестных деревень. Кишан провез нас сквозь толпу до дверей своего дома. На лице его светилась такая широкая улыбка, что люди при виде ее невольно смеялись в ответ.
Спустившись с повозки и сгрузив свой багаж, мы оказались посреди целого моря шепотов и устремленных на нас взглядов. Затем воцарилась тишина, наполненная лишь дыханием сотен людей, вплотную прижатых друг к другу. Они были так близко, что я чувствовал их дыхание у себя на лице. Шестьсот пар глаз зачарованно глядели на меня. Все молчали. Прабакер, стоявший рядом со мной, наслаждался выпавшей на его долю популярностью, но тоже не без трепета взирал на окружавшую нас завесу изумления и выжидания.
– Вы, наверное, удивляетесь, зачем я созвал вас всех сюда? – произнес я серьезным тоном.
Однако мою шутку не поняли, и тишина еще больше сгустилась; даже шепот стих.
Что можно сказать безбрежной толпе незнакомцев, ожидающих, что ты произнесешь речь, но не способных понять ни слова на твоем языке?
У моих ног лежал вещмешок, в котором я хранил подарок от одного из новозеландских друзей – черно-белый шутовской колпак, снабженный, как полагается, тремя матерчатыми рогами с бубенчиками на конце. Друг был актером и сам изготовил этот колпак для выступления. Он подарил мне его в качестве сувенира, приносящего удачу, в аэропорту, перед самым моим вылетом в Индию, и я сунул его в верхний карман рюкзака.
Иногда поймать удачу – значит оказаться в нужном месте в нужный момент и сделать по наитию именно то, что нужно, и именно так, как нужно. Но для этого необходимо забыть свои амбиции, честолюбивые помыслы и планы и целиком отдаться волшебному судьбоносному моменту.
Вытащив колпак из мешка, я натянул его на голову, завязал тесемки под подбородком и выпрямил руками рога. Люди в первых рядах отпрянули, с испугом втянув воздух. Я улыбнулся и тряхнул головой. Бубенчики зазвенели.
– Почтенная публика! – крикнул я. – Представление начинается!
Эффект был молниеносный. Все как один разразились хохотом. Все женщины, дети и мужчины весело завопили. Один из крестьян робко прикоснулся к моему плечу. Стоящие рядом ребятишки стали хватать меня за руки. Вслед за ними и остальные, кто мог дотянуться, начали похлопывать меня, щупать и гладить. Я поймал взгляд Прабакера. На лице его было такое гордое и радостное выражение, словно Господь услышал его молитвы.
Дав односельчанам вволю насладиться новым аттракционом, он решил утвердить свои хозяйские права на него и стал отгонять наиболее назойливых зрителей. Наконец ему удалось освободить проход к отцовскому дому. Когда мы вошли в темное круглое помещение, толпа стала расходиться, смеясь и болтая.
– Тебе надо помыться, Лин. После такого длинного путешествия ты, наверно, пахнешь очень безрадостно. Пойдем, мои сестры разогрели для тебя воду, и кувшины стоят в ожидании.
Я прошел вслед за ним через низкую арку в маленький дворик позади дома, занавешенный с трех сторон соломенными циновками. Дворик был вымощен плоскими речными камнями, от душевой площадки отходила аккуратная канавка для стока воды. Три больших кувшина с водой выжидательно смотрели на меня. Прабакер дал мне мыльницу и маленький медный ковшик, чтобы поливать себя водой.
Пока он объяснял мне, как пользоваться этим душем, я снял ботинки и рубашку и стянул джинсы.
– Лин!!!
Прабакер одним прыжком преодолел двухметровое расстояние, разделявшее нас, и стал прикрывать меня руками, но, увидев лежавшее на вещмешке полотенце, прыгнул за ним, а затем обратно, издавая при каждом прыжке горестно-испуганный вопль «Ай-ай!». Обмотав меня полотенцем, он в ужасе стал озираться:
– Лин, что ты делаешь?! Ты сошел с ума?
– Как, что делаю? Собираюсь мыться.
– Но не так же! Не так же!
– Что значит «не так же»? Ты велел мне вымыться и привел для этого сюда. А когда я хочу вымыться, ты начинаешь прыгать вокруг, как испуганный кролик. В чем дело?
– Но ты же был голым! На тебе ничего не было!
– Ну да, я всегда так моюсь, – ответил я устало, удивляясь этой непонятной панике. Прабакер между тем метался от одной циновки к другой, заглядывая в щели между ними. – И все так моются.
– Нет-нет! Только не в Индии! – обернулся он ко мне. На лице его было написано полнейшее отчаяние.
– Вы что, моетесь одетыми?
– Да, Лин! В Индии никто никогда не раздевается, даже чтобы помыться. В Индии нельзя быть голым. И тем более совсем без одежды.
– Но как же вы моетесь в таком случае?
– Мы моемся в трусах.
– Ну так в чем же дело? На мне трусы, как видишь.
Я скинул полотенце, чтобы показать ему мои черные жокейские трусики.
– Ай-ай! – опять завопил Прабакер, кидаясь за полотенцем и возвращая его на место. – Вот эта маленькая тряпочка? Это не настоящие трусы, Лин. Это только нижние трусы. Надо, чтобы были верхние трусы.
– Верхние трусы?
– Ну да, такие, как у меня.
Он расстегнул брюки и продемонстрировал мне свои зеленые трусы.
– В Индии мужчины всегда и во всех ситуациях носят под одеждой верхние трусы. Даже в тех ситуациях, когда на них надеты нижние трусы, они надевают сверху верхние. Понимаешь?
– Нет.
– Вот что, ты подожди меня, я принесу тебе верхние трусы для мытья. Но ни за что не снимай полотенца. Пожалуйста! Дай мне слово! Если люди увидят тебя в твоих крошечных трусах, они будут просто буйствовать. Подожди меня!
Он исчез и через несколько минут вернулся с двумя парами красных футбольных трусов.
– Вот, Лин, – сказал он, отдуваясь. – Надеюсь, ты войдешь в эти трусы. Ты такой большой. Это трусы Толстяка Сатиша. Он такой толстый, что, я думаю, трусы тебе подойдут. Я рассказал ему историю, и тогда он дал тебе две штуки. Я сказал ему, что в поезде у тебя был понос и твои верхние трусы пришли в такую неподходящесть, что нам пришлось их выбросить.
– Ты сказал ему, что я обосрался в поезде?
– Ну да, Лин. Не мог же я ему сказать, что у тебя нет верхних трусов!
– Ах, ну да, разумеется.
– Что бы он о тебе подумал?
– Ну спасибо, Прабу, – процедил я сквозь зубы таким сухим тоном, что мог бы, пожалуй, обойтись без полотенца.
– Ну что ты, Лин! Не стоит благодарности. Я твой очень хороший друг и рад тебе помочь. Но обещай мне, что ты не будешь ходить голым по Индии, тем более без всякой одежды.
– Обещаю.
– Я очень рад, что ты обещаешь это. Ты ведь тоже мой хороший друг, правда? Я помоюсь вместе с тобой, будто мы два брата, и покажу тебе, как это надо делать в индийском стиле.
Так что мы помылись вдвоем в душевой его родительского дома. Повторяя все действия вслед за Прабакером, я сначала окатил себя водой из ковшика, затем намылил все тело, в том числе и под трусами. Когда мы вымылись и вытерлись полотенцами, Прабакер показал мне, как надеть набедренную повязку поверх мокрых трусов. Повязка представляла собой большой кусок ткани наподобие индонезийского саронга, который обвязывался вокруг талии и свисал до пят. Прикрывшись таким образом, я снял мокрые трусы и надел вместо них сухие. Именно так, сказал Прабакер, следует принимать ванну, не оскорбляя соседских глаз.
После ванны и роскошного ужина из гороховой похлебки, риса и лепешек домашнего приготовления мы с Прабакером наблюдали, как его родители и сестры распаковывают привезенные нами подарки. Затем мы выпили чая, и я в течение двух часов отвечал на вопросы о себе, о моем доме и семье. Я старался говорить по возможности правдиво, но, понятно, кое-что пришлось опустить, включая тот факт, что я не рассчитывал увидеть когда-либо свой дом и семью снова. Наконец Прабакер объявил, что у него больше нет сил переводить и что мне надо дать отдых тоже.
Во дворе рядом с домом для меня была установлена кровать, изготовленная из кокосовой пальмы и покрытая матрасом из волокон того же дерева. Прабакер сказал, что это кровать его отца и что потребуется не меньше двух дней, чтобы сделать для него такую, которая удовлетворит его. А до тех пор Кишан будет спать на полу рядом с постелью своего сына. Я попытался протестовать, однако мои протесты были пресечены их мягкими, но настойчивыми уговорами. Так что мне пришлось лечь в постель бедного крестьянина, и мой первый день в индийской деревне закончился, как и начался, уступками.
Прабакер сказал, что, по мнению его семьи и соседей, я буду чувствовать себя одиноко в чужом месте, вдали от своих близких и потому они все будут сидеть рядом со мной в темноте, пока я не усну. Ведь люди в моей родной деревне, добавил он, наверняка поступили бы так же, если бы он сам оказался там и скучал по своему дому, разве нет?
Так что все они – Прабакер, его родные и соседи – заняли возле меня круговую оборону в теплой темноте, пахшей корицей. Я думал, что не смогу уснуть, находясь в центре всеобщего внимания, но уже через несколько минут стал уплывать куда-то вдаль на волнах их приглушенных голосов, на мягких и ритмичных волнах, сливавшихся с бездонным морем ярких, шепчущих о чем-то звезд.
Я уже совсем засыпал, когда вдруг почувствовал чью-то руку у себя на плече. Это отец Прабакера по доброте душевной решил успокоить меня и усыпить. Я немедленно и полностью проснулся и погрузился в воспоминания и размышления о моей дочери, о родителях и о брате, о совершенных мною преступлениях и о любви, которую я предал и навсегда потерял.
Наверное, это странно и даже невозможно понять, но вплоть до этого момента я, по существу, не сознавал всей непоправимости того, что я совершил, и безвозвратности той жизни, которую я потерял. Когда я участвовал в вооруженных ограблениях, все мои мысли, чувства и действия были окутаны героиновым туманом, и даже воспоминания о том времени вязнут в нем. Впоследствии, во время суда и трех лет заключения, наркотический дурман развеялся, и я должен был бы, кажется, осознать, что означали мои преступления и мое наказание для меня, для моих близких и для тех, кого я грабил с оружием в руках. Но нет, я ни о чем не мог думать, кроме самого наказания. Даже после побега из тюрьмы, когда я прятался и спасался от преследования, – даже тогда у меня не было полного, окончательного, всеобъемлющего понимания всех действий, событий и их последствий, которые положили начало новой печальной истории моей жизни.
И только там, в ту первую ночь в глухой индийской деревушке, где я плыл на волнах тихого бормотания голосов, видя над собой сияние звезд, только тогда, когда грубая, мозолистая крестьянская рука успокаивающе коснулась моего плеча, я наконец полностью осознал, что я сделал и кем я стал, и почувствовал боль, страх и горечь оттого, что я так глупо, так непростительно исковеркал свою жизнь. Мое сердце разрывалось от стыда и от горя. И я вдруг увидел, как много во мне невыплаканных слез и как мало любви. И я понял, как я одинок.
Я не мог, не умел ответить на этот дружеский жест. Моя культура преподала мне уроки неправильного поведения слишком хорошо. Поэтому я лежал не шевелясь, не зная, что мне делать. Но душа не является продуктом культуры. Душа не имеет национальности. Она не различается ни по цвету, ни по акценту, ни по образу жизни. Она вечна и едина. И когда наступает момент истины и печали, душу нельзя успокоить.
Лежа под глядевшими на меня звездами, я стиснул зубы. Я закрыл глаза и отдался во власть сна. Одна из причин, почему мы так жаждем любви и так отчаянно ищем ее, заключается в том, что любовь – единственное лекарство от одиночества, от чувства стыда и печали. Но некоторые чувства так глубоко запрятаны в сердце, что только в полном одиночестве ты и можешь их обнаружить. Некоторые открывающиеся тебе истины о тебе самом настолько болезненны, что, лишь испытывая чувство стыда, ты можешь жить с ними. А некоторые вещи настолько печальны, что только твоя душа может оплакать их.
Глава 6
Отец Прабакера познакомил меня со всей деревней, но почувствовать себя в ней как дома я смог лишь благодаря матери Прабакера. Жизнь ее, со всеми радостями и горестями, объяла мою так же легко и просто, как ее красная шаль укрывала порой плачущего ребенка, переступившего порог ее дома. История ее жизни, которую я узнавал по частям от разных людей в течение этих месяцев, слилась со многими жизненными историями, в том числе и с моей. А ее любовь, ее желание познать мою душу и полюбить меня изменили всю мою жизнь.
Рукхмабаи Харре было сорок лет, когда я встретил ее впервые; она была в расцвете сил и пользовалась в деревне всеобщим уважением. Когда она, со своей пышной фигурой, стояла рядом с мужем, возвышаясь над ним на две головы, создавалось ложное впечатление, что Бог наделил ее чертами амазонки. Ее черные волосы, блестящие от кокосового масла, ни разу за всю ее жизнь не подстригались и в распущенном виде ниспадали величественной волной до колен. Кожа ее была смугло-золотой, а глаза – цвета янтаря, оправленного в розоватое золото. Белки глаз всегда имели розоватый оттенок, так что казалось, что она только что плакала или вот-вот заплачет. Улыбка ее из-за большой щели между двумя передними зубами имела шаловливый вид, а с серьезным выражением лица Рукхмабаи выглядела, благодаря огромному крючковатому носу, необыкновенно авторитетно. Прабакер унаследовал от нее высокий и широкий лоб, а крутые линии ее скул возвышались, словно горы, с которых ее янтарные глаза внимательно смотрели на мир. У Рукхмабаи был живой ум, с пониманием и глубоким сочувствием откликавшийся на чужое горе. Она не участвовала в перепалках между соседями и вмешивалась только тогда, когда спрашивали ее мнение. При этом ее суждение было, как правило, истиной в последней инстанции. Она пробуждала в мужчинах восхищение и желание, но ее глаза и манера держаться не оставляли сомнений, что всякий, кто недооценит или обидит ее, пожалеет об этом.
Кишан владел землей, а Рукхмабаи управляла их скромным хозяйством, поддерживая силой своей личности высокую репутацию семьи. Ее выдали замуж в шестнадцатилетнем возрасте. Когда я научился с грехом пополам говорить на их языке, она с обезоруживающей откровенностью рассказала мне, как разочарована она была, увидев своего суженого из-за занавески в первый раз – единственный до свадьбы. Прежде всего, он был коротышкой. Кожа его была темнее, чем у нее, – за годы крестьянского труда она стала темно-коричневой, как сама земля, и это не нравилось ей. Его руки были грубыми, речь примитивной, одежда хотя и чистой, но невзрачной. И при этом он был безграмотен, в то время как ее отец возглавлял деревенский совет, панчаят, а сама Рукхмабаи умела читать и писать как на маратхи, так и на хинди. Когда она глядела на Кишана в тот первый раз, сердце ее билось так сильно, что она боялась, как бы оно не выболтало ему ее тайные мысли. Ей казалось, что Кишан ей неровня и что она никогда не сможет полюбить его.
И как раз в этот момент Кишан вдруг повернул голову и посмотрел именно туда, где она пряталась. Он никак не мог видеть ее, но взгляд у него был такой, будто он смотрел ей прямо в глаза. А затем он улыбнулся. Она никогда не видела такой широкой сияющей улыбки, полной неотразимого добродушия. Рукхмабаи глядела на эту поразительную улыбку, и странное чувство овладело ею. Она невольно улыбнулась в ответ и почувствовала прилив счастья, безотчетного жизнеутверждающего ликования. «Все будет хорошо, – подсказывало ей сердце. – Все будет хорошо». Она поняла, как понял и я, впервые увидев Прабакера, что человек с такой чистосердечной улыбкой никогда не причинит другому вреда намеренно.
Кишан отвел взгляд, и в комнате словно стало темнее. Рукхмабаи почувствовала, что одного лишь ободряющего сияния его улыбки достаточно, чтобы пробудить в ней любовь к нему. Когда отец объявил ей о помолвке, она не стала возражать, и спустя два месяца после того, как ее обворожила улыбка Кишана, она уже была замужем и вынашивала под сердцем их первого сына, Прабакера.
Отец Кишана выделил молодым два участка плодородной земли, а отец Рукхмабаи добавил третий. Рукхмабаи с самого начала взяла на себя заботу о благополучии их маленького семейного предприятия. Она вела строгий учет всех доходов и расходов, записывая их в обыкновенные школьные тетрадки, которые по мере их накопления связывала и хранила в оцинкованном сундуке.
Она очень осмотрительно участвовала в общих делах, организуемых соседями, и с бережливостью тратила имевшиеся в ее распоряжении средства, благодаря чему их хозяйство не несло больших убытков. Ко времени рождения третьего ребенка Рукхмабаи, в ту пору уже двадцатипятилетней, удалось сделать их состояние самым большим в деревне. У них было пять полей, занятых под товарными культурами, три дойные буйволицы и три быка, две козы, также дававших молоко, и десяток яйценосных кур. На счете в банке лежало достаточно денег, чтобы обеспечить приличным приданым двух дочерей. Рукхмабаи была намерена выдать их за видных людей, чтобы внуки поднялись по общественной лестнице на ступень выше.
Когда Прабакеру исполнилось девять лет, его послали в Бомбей, где он поселился в трущобах и обучался премудростям вождения у своего дяди, шофера такси. Рукхмабаи была преисполнена самых радужных надежд относительно будущего своей семьи. Но тут у нее случился выкидыш, и в течение следующего года еще два. Доктора сказали, что, по всей вероятности, ее матка пострадала при рождении третьего ребенка. Они посоветовали полностью удалить ее. А ведь Рукхмабаи было всего двадцать шесть лет.
В сердце ее образовалась пустота – там, где было приготовлено место для недоношенных детей и тех, что могли появиться в будущем. Два года она была безутешна. Даже волшебная улыбка Кишана, которую он с трудом выдавливал ради нее, не действовала. Отчаявшаяся и убитая горем, она чахла в страдании, ограничив свою деятельность тем минимумом, который требовался для ухода за дочерьми. Смех покинул ее, печаль воцарилась на заброшенных полях.
Душа Рукхмабаи медленно умирала, и, возможно, она так и утонула бы в этой тоске, если бы не событие, угрожавшее существованию всей деревни и вернувшее ее к действительности. В округе появилась вооруженная банда, которая собирала дань с деревенских жителей. Бандиты изрубили своими мачете одного из крестьян соседней деревни и изнасиловали женщину. В деревне Сундер они также убили крестьянина, оказавшего им сопротивление.
Рукхмабаи знала убитого очень хорошо. Он приходился двоюродным братом Кишану и был женат на женщине из родного селения самой Рукхмабаи. На похороны пришли все деревенские жители без исключения – все мужчины, все женщины, все дети. В конце церемонии Рукхмабаи обратилась к односельчанам. Волосы ее были растрепаны, янтарные глаза светились гневом и решимостью. Она пристыдила тех, кто был готов ублаготворить бандитов, призывая сопротивляться им и убивать, если это потребуется для защиты своей жизни и своей земли. Крестьяне были поражены страстным порывом Рукхмабаи, столь неожиданным после двухлетнего горестного оцепенения; ее воинственная речь воодушевила их. Тут же был разработан план антибандитских действий.
Весть о том, что жители деревни Сундер вознамерились оказать им сопротивление, достигла бандитов. Последовали угрозы, стычки и отдельные налеты на деревню. В результате стало ясно, что решительной схватки не миновать. Бандиты прислали ультиматум: или крестьяне соберут к определенному дню солидную дань, или их ждут ужасные последствия.
Люди вооружились серпами, топорами, ножами и палками. Женщин и детей эвакуировали в соседнюю деревню. Оставшиеся на передовой мужчины пребывали в страхе и неуверенности. Некоторые говорили, что это безрассудство и что лучше уплатить дань, чем погибнуть. Родственники крестьян, павших от рук бандитов, стыдили малодушных и подбадривали остальных.
Прошел слух, что к деревне приближается какая-то толпа. Все в испуге и возбуждении попрятались за баррикадами, наспех сооруженными между домами. Они уже готовы были вступить в схватку, но тут оказалось, что к ним прибыло подкрепление. Прослышав о войне с бандитами, Прабакер сколотил в трущобах группу из шести родственников и друзей и отправился вместе с ними на помощь своей семье. Ему было в то время всего пятнадцать лет, а самому старшему из его друзей – восемнадцать, но они жили в одном из наиболее неспокойных районов Бомбея и привыкли к уличным дракам. Среди них был высокий красивый юноша, по имени Раджу, с прической как у кинозвезды. Он прихватил с собой пистолет. Вид столь грозного оружия сразу поднял боевой дух крестьян.
Бандиты с самоуверенным и заносчивым видом неспешно явились в деревню за час до захода солнца. С уст их вожака еще срывались леденящие кровь угрозы, когда навстречу им вышел Раджу, стреляя при каждом третьем шаге из пистолета. Тут же из-за баррикад в бандитов полетели топоры, ножи, серпы, палки и камни. Раджу между тем приближался к ним не останавливаясь, пока не застрелил вожака почти в упор. Тот умер, не успев коснуться земли.
Остальные члены банды разбежались, зализывая раны, и больше крестьяне никогда о них не слышали. Труп вожака они отнесли на полицейский пост района Джамнер, где единодушно показали, что на них напали бандиты, которые в пылу битвы застрелили одного из своих. Имя Раджу ни разу не было упомянуто. Победу над бандитами праздновали два дня, после чего Прабакер с друзьями вернулся в свои трущобы. Сорвиголова Раджу был убит во время драки в баре год спустя. Еще двоих постигла та же участь, а один парень из их компании влюбился в актрису, убил соперника и был осужден на длительный срок.
Когда я выучил маратхи настолько, чтобы понимать крестьян, они поведали мне о легендарной битве во всех подробностях, провели по местам боев и даже разыграли исторические события в лицах, причем молодые исполнители ссорились из-за того, кому из них достанется роль Раджу. Судьба его товарищей, о которой им поведал Прабакер во время своих приездов в деревню, также подробно пересказывалась мне как часть одной большой саги о подвигах героев. И во всех рассказах неизменно упоминалось c гордостью и любовью имя Рукхмабаи Харре, чья зажигательная речь во время похорон дала толчок сопротивлению. Это был первый и последний раз, когда она приняла активное участие в общественной жизни, и односельчане, восхищаясь ее храбростью и силой духа, больше всего радовались тому, что она, преодолев свое горе, вернулась к ним и стала той же сильной, мудрой и жизнерадостной женщиной, какой они ее всегда знали. Никто в этой обыкновенной бедной деревне никогда не сомневался и не забывал, что их самое ценное достояние – это сами жители.
Все это было запечатлено в лице Рукхмабаи. Складки, образовавшиеся у нее под глазами, служили плотинами, не дававшими слезам изливаться. Когда она сидела в одиночестве, задумавшись или поглощенная работой, ее полные красные губы были полураскрыты, словно хотели задать вопрос, не имевший ответа. Раздвоенный подбородок был выпячен вперед с вызовом и решимостью. А на лбу между бровями никогда не исчезала складка, как будто в ней был сконцентрирован весь ее жизненный опыт, говоривший ей, что не бывает безоблачного счастья, богатство не достается даром, а в жизни рано или поздно наступает период скорби и смерти.
Мои добрые отношения с Рукхмабаи установились в первое же утро. Спалось мне на матрасе из кокосового волокна очень хорошо – настолько хорошо, что, когда Рукхмабаи вскоре после рассвета привела во двор буйволиц для дойки, я продолжал громко храпеть. Одна из коров, привлеченная непонятным жужжанием, решила исследовать его происхождение. Я разом проснулся, почувствовав, что меня душит что-то влажное, и, открыв глаза, увидел огромный розовый язык, собиравшийся вторично лизнуть мое лицо. Я с перепугу свалился с постели и откатился как можно дальше.
Рукхмабаи не смогла удержаться от смеха, но это был добрый смех, открытый и дружелюбный. Она протянула мне руку, и я, поднявшись с ее помощью, тоже рассмеялся.
– Гаэн! – сказала она, указав на животное. – Буйвол!
Так началось наше словесное общение: я выступал в роли ученика, изучающего иностранный язык.
Взяв стеклянную банку, она склонилась под огромным черным зверем с дугообразными рогами, чтобы надоить молока. Опытным движением она направила струю прямо в банку, и скоро та была полна. Вытерев край банки уголком красного платка, она протянула ее мне.
Я горожанин до мозга костей, родился и вырос в городе с трехмиллионным населением. Любовь к большим городам помогала мне выжить в те долгие годы, когда я скрывался; в городах мне было уютно почти как дома. Я взял в руки банку парного молока, и во мне вдруг проснулось присущее потомственному горожанину боязливое недоверие к деревне. Молоко было теплым, пахло коровой, и в нем, чудилось мне, что-то плавало. Я медлил в нерешительности, чувствуя незримое присутствие Луи Пастера[50 — Луи Пастер (1822–1895) – французский микробиолог и химик. Изучал процессы брожения и предложил метод уничтожения бактерий в молоке и других жидкостях путем нагревания.], заглядывающего через мое плечо в банку. «Знаете, мсье, на вашем месте я сначала вскипятил бы его…» – слышался мне его голос.
Несколькими большими глотками я прикончил молоко вместе со своими страхами и предубеждениями, стараясь сделать это как можно быстрее. Молоко оказалось совсем не таким плохим, как я ожидал, – оно было густым, с богатым вкусом и оставляло ощущение не только жвачного животного, но и сухих трав. Рукхмабаи схватила у меня банку и хотела наполнить ее снова, но мои умоляющие протесты убедили ее, что я вполне насытился.
После того как мы с Прабакером совершили утренний туалет, умылись и почистили зубы, Рукхмабаи усадила нас за стол и не отходила ни на шаг, пока мы поглощали плотный завтрак. На завтрак подавались роти, пресные лепешки, напоминающие блины, которые пеклись ежедневно в смазанном маслом котелке на открытом огне. Внутрь лепешки добавляли топленое масло, приготовленное из буйволового молока, и большую ложку сахарного песка. Лепешку сворачивали трубочкой, которую с трудом можно было обхватить рукой, и ели, запивая горячим сладким чаем с молоком.
Рукхмабаи придирчиво следила за тем, чтобы мы исправно жевали, и тыкала нас пальцем в бок или хлопала по голове и плечам при всяком нашем поползновении сделать паузу и перевести дух. Вовсю работая челюстями, мы исподтишка бросали взгляды на возившихся у плиты сестер Прабакера, надеясь, что хотя бы третья или четвертая из вкуснейших лепешек окажется последней.
Каждый день, проведенный мною в деревне, начинался со стакана молока, за которым следовали умывание и завтрак, состоявший из роти с чаем. После этого я обычно присоединялся к мужчинам, которые трудились на полях, засеянных хлопком, кукурузой, бобами, пшеницей и прочими злаками. Рабочий день делился на две половины примерно по три часа. В перерыве между ними был обед и послеобеденный сон. Обед приносили в разнообразных мисках из нержавеющей стали женщины и дети. Чаще всего это были те же роти, приправленная специями чечевичная похлебка, манговый чатни[51 — Чатни – кисло-сладкая плодовая приправа.] и сырой репчатый лук в лаймовом соке. Пообедав сообща, мужчины разбредались в поисках прохладного уголка, где можно было бы часок подремать. Затем работа возобновлялась с удвоенной силой, пока старший группы не давал отбой. Все собирались на прогалине между обработанными полями и дружной толпой возвращались в деревню, перебрасываясь по пути шутками.
В самой деревне для мужчин работы было немного. Приготовлением пищи, уборкой, стиркой и прочими хозяйственными делами занимались в основном женщины – как правило, молодые, которыми руководили более старшие. Женщины работали примерно четыре часа в день, так что у них оставалось много времени для общения с детьми. У мужчин рабочая неделя состояла из четырех рабочих дней по шесть часов. Посев и уборка урожая требовали, конечно, дополнительных усилий, но в среднем крестьяне Махараштры проводили за работой меньше времени, чем горожане.
Тем не менее жизнь крестьян была отнюдь не безмятежной. Некоторые после работы на общем поле до изнеможения трудились на собственных участках, пытаясь вырастить на каменистой почве какую-нибудь культуру на продажу – как правило, хлопок. Период дождей часто наступал слишком рано или слишком поздно. Поля затапливало, они подвергались нашествию насекомых или эпидемиям болезней. Женщины не занимались ничем, помимо домашних дел, и все остальные заложенные в них задатки и природные таланты постепенно угасали. Одаренный ребенок, который в городе мог бы проявить свои способности, также не видел ничего, кроме своей деревни, реки и полей. Случалось, подобная жизнь доводила людей до такого отчаяния, что в ночной тишине были слышны чьи-то рыдания.
Несмотря на это, как и обещал Прабакер, вся деревня пела целые дни напролет. Если можно считать, что обилие хорошей пищи, пение, смех и дружеские отношения с соседями – показатели благосостояния и счастья, то крестьяне Махараштры, несомненно, превосходили в этом деревенских жителей на западе. За все шесть месяцев, что я провел в деревне, мне ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-либо из крестьян поднял на другого руку или даже повысил голос. Все односельчане Прабакера были исключительно здоровыми и крепкими людьми. К старости они слегка полнели, но толстыми назвать их было нельзя; люди среднего возраста чувствовали себя прекрасно, их глаза ярко блестели; дети были стройными, смышлеными и веселыми.
А главное, крестьяне жили с уверенностью в завтрашнем дне, чего я не наблюдал ни в одном городе, – эта уверенность возникает, когда земля и люди, работающие на ней поколение за поколением, становятся одним целым, люди отождествляются с окружающей природой. Города – центры постоянных и необратимых перемен. Символом городской жизни служит тарахтение отбойного молотка, напоминающее звук, который издает гремучая змея перед нападением. Но изменения в деревне повторяются из года в год. То, что утрачивается сегодня, восстанавливается в ходе годичного цикла. То, что земля отдает в этом году, она будет отдавать и в следующем. Все цветущее неизбежно погибает, но затем возрождается вновь.
И когда я прожил в деревне месяца три, эта уверенность в известной степени передалась и мне; Рукхмабаи и ее односельчане поделились со мной частью своего существа и существования, и с тех пор моя жизнь изменилась в корне. В день, когда начался сезон муссонных дождей, я купался в речке вместе с другими молодыми людьми и двумя десятками ребятишек. Темные тучи, вот уже несколько недель появлявшиеся отдельными группами и нахмуренно взиравшие на нас, теперь заполонили все небо от горизонта до горизонта и, казалось, придавливали к земле верхушки деревьев. Воздух был настолько насыщен влагой, что эта перемена, после восьми засушливых месяцев, буквально пьянила людей.
– Паус алла! С’алла гхурри! – закричали дети, хватая меня за руки. – Ураган приближается! Пошли домой! – Они указывали на тучи и тянули меня в сторону деревни.
Первые капли дождя застали нас в пути. Спустя несколько секунд они переросли в ливень, спустя несколько минут это был уже водопад. Через час вода лилась с неба сплошным потоком, таким плотным, что дышать на улице можно было, лишь прикрыв рот ладонями и отгородив ими небольшое воздушное пространство.
Сначала крестьяне плясали и дурачились под дождем. Некоторые прихватили из дому мыло и мылись под этим небесным душем. Другие направились в местный храм, чтобы вознести Богу молитвы. Третьи спешили залатать прорехи в крышах домов и углубить канавы, прорытые возле каждой стены. Но в конце концов все, оставив свои занятия, завороженно уставились на плывущую перед их глазами живую, колышущуюся водяную завесу. В дверях каждого дома толпились люди, и каждая вспышка молнии высвечивала застывшие на их лицах изумление и восторг.
За этим многочасовым потопом последовало столь же длительное затишье. Время от времени вылезало солнце, и пар клубами поднимался с нагретой земли. Десять дней повторялось одно и то же: бурное низвержение воды и затем период спокойствия, как будто муссоны испытывали деревню на прочность перед решительным штурмом.
А когда пошел настоящий дождь, то это было целое море в воздухе, лившееся с небес почти безостановочно семь дней и ночей. На седьмой день, когда этот поток немного приутих, я отправился на речку постирать одежду. Потянувшись за мылом, пристроенным мною на береговом камне, я вдруг увидел, что камень ушел под воду. В течение нескольких секунд вода, омывавшая мои ступни, поднялась до самых колен. Я взглянул на катившиеся по реке вздыбленные валы, а они между тем уже плескались о мои бедра.
В недоумении и испуге я выбрался из воды и побрел со своей мокрой одеждой к дому. По дороге я дважды останавливался, наблюдая, как поднимается вода. Она быстро достигла верхней кромки крутых берегов и стала затоплять окружающую равнину, проникая во все поры и уголки. Вспухшая, вышедшая из берегов река неуклонно приближалась к деревне со скоростью неторопливого пешехода. Я в панике побежал, чтобы предупредить жителей.
– Река! Река приближается! – закричал я на ломаном маратхи.
Видя мое смятение, но не вполне понимая его причину, собравшиеся вокруг меня крестьяне решили позвать Прабакера, чтобы выяснить, в чем дело.
– Что с твоим состоянием, Лин? Люди очень беспокоятся за него.
– Река вышла из берегов! Она скоро затопит деревню!
Прабакер улыбнулся:
– Ну что ты, Лин. Такого не будет происходить.
– Да говорю же тебе! Я видел собственными глазами. Эта чертова река уже затопила все берега!
Прабакер перевел мои слова односельчанам. Все развеселились.
– Почему вы смеетесь? – закричал я, совершенно сбитый с толку. – Это же не шутки!
Это еще больше рассмешило их. Они стали хлопать меня по плечам и гладить, успокаивая. Затем толпа под предводительством Прабакера повела меня обратно к реке.
Река между тем была уже в нескольких сотнях метров от деревни и превратилась в целое водохранилище, по которому гуляли беспокойные валы, образуя водовороты. Пока мы стояли, наблюдая эту картину, наша одежда промокла, а река удвоила свой напор и захватывала с каждой секундой все большую территорию.
– Видишь эти палочки, Лин? – спросил Прабакер мерзким, снисходительно-успокоительным тоном, который меня уже немало раздражал. – Это колышки для игры с наводнением. Помнишь, когда их втыкали в землю – Сатиш, Пандей, Нарайан и Бхарат? Помнишь?
Ну да, я помнил. За несколько дней до этого было устроено что-то вроде лотереи. На маленьких клочках бумаги написали имена всех жителей деревни – сто двенадцать имен – и запихнули их все в большой глиняный горшок для воды, называвшийся матка. Вытащить из горшка шесть бумажек с именами тех, кто выиграл, было поручено маленькой девочке. Вся деревня, с интересом наблюдавшая за этой операцией, приветствовала счастливчиков аплодисментами.
Шестеро выигравших имели право забить в землю палки длиной чуть больше метра. Такое же право предоставили, без участия в лотерее, троим самым старым жителям деревни. Они выбрали место, и их более молодые односельчане загнали их палки в грунт. К каждому колышку прикрепили флажок с именем человека, закопавшего его, после чего все разошлись по домам.
Я в этот момент сидел неподалеку в тени одного из развесистых деревьев, составляя по фонетическому принципу собственный словарик тех слов языка маратхи, которые я ежедневно слышал в деревне. Занятый своим делом, я не обратил особого внимания на затеянную крестьянами лотерею и не поинтересовался, что она значит.
Теперь же, когда мы коченели под барабанившим по нашим спинам дождем и наблюдали за подкрадывавшимся к нам водным потоком, Прабакер объяснил, что колышки – это игра, которую они устраивают каждый год во время наводнения. Трем старшим жителям деревни и шестерым выигравшим в лотерею предоставлялся шанс угадать, до какого места в этом году доберется вода. Воткнутые в землю колышки отмечали места, предсказанные участниками.
– Смотри вон на тот флажок, – указал Прабакер на колышек, находившийся ближе других к реке. – Вода уже совсем рядом с ним. Сегодня ночью или завтра она затопит его.
Он перевел эти слова крестьянам, и они вытолкали вперед Сатиша, коренастого пастуха. Полузатопленный колышек принадлежал ему, и он, потупившись, смущенно ухмылялся под добродушный смех односельчан.
– А вот до этого флажка вода вряд ли дойдет, – продолжал Прабакер, показав мне ближайший к нам колышек. – Река никогда так далеко не разливалась. Это флажок старого Дипакбхая. Он думал, что потоп в этом году будет очень сильным.
Пришедшие с нами крестьяне утратили интерес к наводнению и побрели или побежали к деревне. Мы остались вдвоем с Прабакером.
– Но откуда ты знаешь, что вода не дойдет до этого колышка?
– Мы живем здесь очень долго, Лин. Деревня Сундер стоит на этом месте две тысячи лет. А следующая деревня, Натинкерра, стоит еще дольше, три тысячи лет. В некоторых деревнях – далеко отсюда – у людей были большие несчастья в период дождей из-за наводнения. Но не у нас, не в Сундере. Наша река никогда не разливалась дальше этого места. В этом году, я думаю, она тоже не пойдет дальше, хотя старый Дипакбхай говорит иначе. Все знают, где река остановится.
Он поднял глаза к небу, поливавшему нас водой:
– Но обычно мы не приходим сюда смотреть на потопные колышки, пока идет дождь. Я уже совсем плаваю в своей одежде, Лин, и если ты не против, то я пойду выжму лишнюю воду из своих костей.
Я стоял не слыша его, зачарованно глядя на толчею черных туч в вышине.
– Лин, а у тебя в стране люди знают, где остановится вода? – спросил Прабакер.
Не дождавшись ответа, он похлопал меня по плечу и пошел домой. Я же смотрел на окружающий насквозь промокший мир и думал о той реке, что течет в каждом из нас, где бы мы ни жили. Это река наших сердец, наших сердечных желаний. Это чистая, глубочайшая истина, показывающая нам, кем мы являемся и чего можем достичь. Всю свою жизнь я провел как в осажденной крепости. Я всегда был готов – слишком хорошо готов – воевать за то, что я любил, и против того, что ненавидел. И в итоге я сам стал олицетворением этой вечной войны, мое истинное «я» было скрыто под угрожающей маской. Как и у многих крутых парней, мое лицо, да и все тело, выражало лишь одно: «Со мной шутки плохи». В конце концов я научился так хорошо выражать эту мысль, что вся моя жизнь превратилась в одно лишь воинственное предупреждение.
Но в деревне эта поза не имела смысла. Местные жители не понимали ее. Они не знали других иностранцев, и им не с чем было сравнивать. Если я был мрачен или даже ожесточен, они смеялись и поощрительно хлопали меня по спине. Они считали меня дружелюбным парнем и не обращали внимания на выражение моего лица. Я был для них человеком, который работает бок о бок с ними, шутит, изображает клоуна с детьми, поет и танцует вместе со всеми и смеется от всей души.
И я думаю, что тогда я действительно смеялся от всей души. Мне выпал шанс преобразиться и, отдавшись течению этой внутренней реки жизни, стать человеком, каким я всегда хотел быть. Всего за три часа до того, как Прабакер объяснил мне суть игры с колышками, я узнал от его матери, что она созвала женщин селения на совещание, чтобы дать мне новое, местное имя, какое носили они все. Поскольку я жил в семье Прабакера, то они решили, что и фамилия моя должна быть такая же, как у них: Харре. Кишан был отцом Прабакера и считался моим приемным отцом, и традиция требовала, чтобы я взял его имя в качестве своего второго. А первое, основное имя Рукхмабаи выбрала для меня, исходя из того соображения, что у меня спокойный и жизнерадостный характер, и остальные женщины согласились с ее выбором. Это имя было Шантарам, что означает «мирный человек» или «человек, которому Бог даровал мирную судьбу».
Эти индийские крестьяне обозначили своими колышками те пределы в моей жизни, где река остановится. Они знали это место во мне и отметили его флажком с моим новым именем: Шантарам Кишан Харре. Не знаю, разглядели ли они это имя в сердце того человека, каким меня считали, или сами поместили его туда, как семя, из которого вырастет древо исполнения желаний. Это не важно. Главное, что именно в тот момент, когда я стоял возле этих потопных колышков, подняв лицо к дождю, окроплявшему меня, как при крещении, во мне родился новый человек, Шантарам. Та более совершенная личность, в которую я, медленно и с большим опозданием, начал превращаться.
Глава 7
– Это очень прекрасная проститутка, – умоляюще говорил Прабакер. – Она такая пышная, и как раз в самых серьезных и важных местах. Ты будешь такой возбужденный, просто упадешь без чувств от нее.
– Это, конечно, очень соблазнительное предложение, Прабу, – отвечал я, сдерживая смех, – но она меня не интересует. Мы только вчера уехали из деревни, и я ни о чем другом не могу думать. У меня нет… настроения встречаться с этой проституткой.
– Настроение не проблема, баба. Как только начнутся прыжки и кувыркания, твое плохое настроение очень быстро изменится. Раз – и все.
– Возможно, ты прав, но я, пожалуй, все-таки воздержусь.
– Но она такая подопытная! – скулил он. – Парни сказали мне, что только в этой гостинице у нее был сексуальный бизнес много-много раз и со многими-многими сотнями разнообразных мужчин. Я видел ее. Я посмотрел в самую нутрь ее глаз и понял, что она очень большой эксперт в сексуальном бизнесе.
– Мне не нужна проститутка, Прабу, каким бы экспертом она ни была.
– Если бы ты только увидел ее! Ты сразу помешался бы по ней.
– Нет, Прабу, извини.
– Но я пообещал, что ты придешь и посмотришь на нее. Только посмотришь, и все. Она не навредит тебе, если ты только посмотришь.
– Нет и нет.
– Но… я не смогу получить обратно задаток, если ты не пойдешь и не поглядишь немного на нее.
– Ты уплатил задаток?
– Да, Лин.
– За то, чтобы я совокупился с проституткой из этой гостиницы?
– Да, Лин, – вздохнул он и, подняв руки, беспомощно уронил их. – Шесть месяцев в деревне ты провел. Шесть месяцев без всякого сексуального бизнеса. Я размышлял, что ты должен чувствовать большое количество потребности. И теперь задаток не вернется ко мне, если ты не бросишь на нее хотя бы самый крошечный взгляд.
– Хорошо, – вздохнул я, повторив его беспомощный жест. – Придется пойти и взглянуть, чтобы выручить тебя.
Я запер дверь нашего номера, и мы пошли по широкому коридору. Гостиница «Апсара» в Аурангабаде, к северу от Бомбея, была построена больше ста лет назад с расчетом на другую, более пышную эпоху. Просторные номера с высокими потолками имели балконы, выходившие на оживленную улицу; лепные узоры украшали карнизы и потолки. Однако мебель была дешевой и подобранной как попало, а ковровая дорожка в коридоре протерлась до дыр, лохматившихся по краям. Крашеные поверхности шелушились, на стенах виднелись грязные пятна, все было невзрачно и убого. Самая подходящая гостиница, уверял меня Прабакер, чтобы провести счастливую ночь по пути в Бомбей.
Мы остановились у дверей в конце коридора. Прабакер дрожал от возбуждения, глаза его были широко раскрыты.
Я постучал, и дверь почти сразу же отворилась. На пороге стояла женщина, на вид ей перевалило за пятьдесят. Она была одета в красное с желтым сари и злобно взирала на нас. В комнате находились несколько мужчин, на которых, как на крестьянах в деревне Прабакера, были лишь набедренные повязки и белые шапочки. Они сидели на полу и поглощали в большом количестве гороховую похлебку с рисом и роти.
Женщина вышла в коридор, захлопнув дверь за собой. Она сверлила взглядом Прабакера. Он едва доходил ей до плеча и смотрел на нее, как прихвостень какого-нибудь школьного задиры на своего вожака.
– Ты видишь, Лин? – спросил он, не сводя с нее глаз. – Видишь, о чем я тебе говорил?
Я видел перед собой широкое заурядное лицо, с носом картошкой и тонкими, презрительно кривившимися губами, напоминавшими моллюска, которого пошевелили палкой. Лицо и шея были покрыты толстым слоем косметики, как у гейши, что в сочетании с ее свирепым выражением придавало женщине поистине злодейский вид.
– Покажи ему! – обратился к ней Прабакер на маратхи.
В ответ она распахнула сари, представив на обозрение выпирающий пухлый живот. Защемив фунт-другой этой плоти между обрубками-пальцами, она поглядела на меня, приподняв одну бровь в ожидании восхищенного комплимента.
Прабакер издал слабый стон, глаза его еще больше расширились.
Кинув взгляд вдоль коридора, женщина приподняла на несколько сантиметров блузку, продемонстрировав нам свои груди, длинные и болтающиеся, как маятники. Схватив одну из них, она помахала ею у меня перед носом, прищурившись и изогнув брови с каким-то совершенно непостижимым выражением. Первое, что приходило в голову, – это была не то угроза, не то насмешка.
Глаза Прабакера совсем вылезли из орбит; открыв рот, он с шумом втягивал воздух.
Женщина опустила блузку и, резко дернув головой, выбросила вперед длинную черную косу. Ухватив косу обеими руками, она стала выжимать ее пальцами сверху вниз, словно это был наполовину опустошенный тюбик зубной пасты. С конца косы на пол закапало густое кокосовое масло.
– Лин, знаешь что… – выдавил Прабакер, уставившись голодным и чуть ли не испуганным взглядом на капли масла на полу и притоптывая от нетерпения правой ногой. – Если ты не хочешь заниматься с ней сексуальным бизнесом… если ты вправду не хочешь… то я мог бы истратить этот задаток на себя…
– Увидимся в нашем номере, Прабу, – ответил я и, улыбнувшись женщине с полупоклоном, унес с собой ее презрительную и злобную гримасу.
Дожидаясь Прабакера, я решил привести в порядок свой словарь маратхи. Он содержал уже шестьсот единиц повседневной лексики. Узнавая у деревенских жителей новые слова и фразы, я записывал их на клочках бумаги, а потом переносил в большой блокнот. Только я разложил на столе бумажки с самыми новыми, еще не переписанными в блокнот словами, как дверь распахнулась и в комнату ввалился Прабакер. Не говоря ни слова, он прошествовал к своей кровати и завалился на нее лицом кверху. С тех пор как я оставил его у дверей проститутки, не прошло и десяти минут.
– О Лин! – простонал он, блаженно улыбаясь в потолок. – Я знал это! Я знал, что она сверхподопытная женщина.
Я недоуменно смотрел на него.
– Да! – воскликнул он, садясь на кровати и болтая своими короткими ножками. – Она стоит больших денег. И я тоже сделал ей секс очень, очень хорошо. А теперь пойдем! Будем есть, пить, гулять!
– Ну пошли, если у тебя еще остались силы.
– Сил для этого места не надо, баба! Место, в которое я тебя отведу, – это такое замечательное место, что там часто можно даже сесть, когда пьешь!
Сказано – сделано. Прабакер отвел меня в это замечательное место. Находилось оно примерно в часе ходьбы от гостиницы, далеко за последней автобусной остановкой на окраине города. Заказав выпивку всем присутствующим, мы присоединились к группе замызганных посетителей, занимавших единственную в баре узкую каменную скамью и сосредоточенно напивавшихся. В Австралии такие заведения, не имеющие патента, называют самогонными погребками: в них можно достать алкоголь выше установленной крепости по договорной цене.
Компания состояла из рабочих, крестьян и прослойки правонарушителей разного профиля. Вид у всех был угрюмый и довольно затравленный. Говорили они редко и отрывисто. Опрокинув очередной стакан зловонного самогона, они строили зверскую гримасу и крякали, хрюкали или рычали, каждый на свой лад. Мы с Прабакером, зажав нос, проглотили ядохимикат одним залпом, чтобы не успеть его распробовать, после чего сумели волевым усилием удержать выпитое в желудке. Отдышавшись и подавив сопротивление организма, мы пошли по второму кругу.
Занятие было суровым и безрадостным. В людях чувствовалась напряженность. Некоторым задача оказалась не по плечу, и они сходили с дистанции, потихоньку ускользая. Другие оставались исключительно из чувства солидарности с товарищами по несчастью. Прабакер долго размышлял над пятым стаканом ядовитой жидкости. Я уж подумал, что он хочет признать свое поражение, но он собрал волю в кулак и опорожнил стакан, задыхаясь и орошая свой костюм. Тут один из участников забега вдруг отбросил свой стакан в сторону и, выйдя на середину помещения, фальшиво, но громогласно затянул песню. Мы все бурно выразили свое одобрение, радостно сознавая, что наконец-то мы напились.
Пели все по очереди. Сначала плачущими голосами исполнили национальный гимн, за ним последовали религиозные причитания. Индийские любовные куплеты перемежались протяжными душераздирающими лирическими газелями.
Два дюжих официанта, зная, какая стадия опьянения за этим последует, отставили в сторону подносы с напитками и заняли выжидательный пост на табуретах по обеим сторонам от двери. Широко улыбаясь, кивая нам и покачивая головой, они нежно сжимали в мясистых руках большие деревянные дубинки. Каждого певца публика провожала криками «Браво!» и аплодисментами. Когда наступила моя очередь, я решил исполнить – сам не знаю почему – известную песню группы «Кинкс» «Я так запал на тебя»:
Да, девочка, запал я на тебя,
Я так запал, что не могу уснуть…
Опьяненный своей славой, не говоря уже о выпитом, я заставил Прабакера выучить слова, а он, не уступая мне в опьяненности, выучил остальных, так что у нас получился хор:
Да-да, клянусь, ты девочка что надо,
Я так запал, что прямо мочи нет…
Мы продолжали горланить на пустынной дороге, ведущей к городу, когда навстречу нам медленно проехал белый «амбассадор». Миновав нас, он развернулся, так же медленно проехал обратно и свернул к обочине, перегородив нам путь. Из автомобиля вышли четверо, водитель остался на своем месте. Самый высокий подошел ко мне и, схватив за рубашку, что-то пролаял на маратхи.
– В ч-чем дело?.. – выдавил я на том же языке.
Сбоку ко мне подскочил еще один из той же четверки и нанес короткий удар, так что голова моя дернулась назад. Тут же я получил еще два удара – по зубам и по носу. Я попятился и, наступив на что-то, почувствовал, что одна нога у меня подгибается. Падая, я видел, как Прабакер кинулся навстречу нападавшим, раскинув руки в попытке остановить их. Собрав все силы, я вскочил на ноги и даже сумел пару раз дать сдачи. Хук слева и удар правым локтем сверху вниз – два лучших приема в любой уличной схватке – получились у меня неплохо. Прабакер упал рядом со мной, вскочил и тут же заработал сокрушительный удар, от которого у него все поплыло перед глазами и он закачался. Я хотел подойти поближе к нему, чтобы защитить его ногами, но опять споткнулся и неловко рухнул. Удары и пинки посыпались на меня со всех сторон. Я прикрылся как мог, а в голове у меня кто-то тихо твердил: «Это мне знакомо… Это мне знакомо…»
Трое навалились на меня, а четвертый опытными пальцами обшарил мои карманы. Пьяный и избитый, я как в тумане различал темные силуэты, склонившиеся надо мной. Тут вдруг послышался голос, умолявший бандитов о чем-то и одновременно поносивший их. Это был голос Прабакера. Он обвинял их в том, что они позорят свою страну и свой народ, грабя и избивая иностранца, гостя их страны, который не сделал им ничего плохого. Говорил он довольно бессвязно, но пламенно и умудрился на одном дыхании обозвать их несчастными трусами и упомянуть Махатму Ганди, Будду, Кришну, мать Терезу и болливудскую звезду Амитаба Баччана[52 — Амитаб Баччан (р. 1942) – популярный индийский киноактер.]. Это подействовало. Главарь приблизился ко мне и опустился на корточки рядом. Я хотел было подняться и вновь вступить в бой, но трое остальных пресекли мои попытки и прижали к земле. «Это мне знакомо… Это мне знакомо…»
Человек, наклонившись, заглянул мне в глаза. Лицо его было жестким и абсолютно ничего не выражало, чем очень напоминало мое собственное. Приподняв мою изодранную рубашку, он сунул что-то под нее. Это были мой паспорт и часы.
Бросив напоследок на Прабакера взгляд, полный безграничной ненависти, бандиты забрались в автомобиль. Двери захлопнулись, и «амбассадор» рванул прочь, обдав нас грязью и градом щебня.
Прабакер прежде всего убедился, что у меня нет серьезных травм, а затем принялся в отчаянии стенать и рвать на себе волосы. Он был безутешен и проклинал себя за то, что повел меня в этот отдаленный бар и допустил, чтобы мы так напились. Он с абсолютной искренностью говорил, что предпочел бы сам получить все синяки, ссадины и кровоподтеки, которые достались мне. И это было понятно: пострадала его профессиональная гордость, репутация лучшего бомбейского гида. А его страстной, безграничной любви к Бхарат Матаджи, матери-Индии, был нанесен такой удар, с которым не могли сравниться никакие телесные страдания.
– Только одну вещь надо сделать, Лин, – говорил он, в то время как я склонился над умывальником в просторной, выложенной белым кафелем ванной нашей гостиницы. – Когда мы вернемся в Бомбей, ты должен написать своим родным и своим друзьям телеграмму, чтобы они послали тебе денег, а потом пойти в свое новозеландское посольство и написать жалобу на свои чрезвычайные обстоятельства.
Вытерев лицо, я посмотрел на себя в зеркало. Урон был не таким уж большим. Под глазом расцветал синяк. Нос распух, но не был сломан. Губы были разбиты и тоже распухли, на щеках и подбородке красовались многочисленные ссадины. Все могло обернуться несравненно хуже. Я вырос в неблагополучном районе, где группы парней из рабочих семейств воевали друг с другом и были беспощадны к одиночкам вроде меня, не желавшим примкнуть ни к одной из них. Ну а потом была тюрьма. Никто не избивал меня так жестоко, как тюремные надзиратели, которым платили за то, чтобы они поддерживали спокойствие и порядок. Именно это вспоминал мой внутренний голос: «Мне это знакомо…» Он вспоминал, как трое или четверо тюремщиков из дисциплинарного подразделения держали меня, в то время как двое-трое других молотили кулаками, дубинками и ногами. Если тебя дубасят люди, которые должны, по идее, быть «хорошими парнями», то чувствуешь себя отвратительно и относишься после этого с пониманием к напавшим на тебя «плохим парням». Когда же «хорошие парни» пристегивают тебя наручниками к стене и начинают по очереди пинать и колошматить, то кажется, что это вся система, весь мир переламывает тебе кости. Каждую ночь нам не давали покоя крики. Крики заключенных, которых избивали.
Глядя в собственные глаза в зеркале, я думал о том, что сказал Прабакер. Он не знал, что я не мог обратиться в новозеландское посольство – и ни в какое другое. Я не мог написать друзьям и родным, потому что полиция следила за ними в надежде именно на эту оплошность с моей стороны. Так что мне неоткуда было ждать помощи или денег. Бандиты отобрали у меня все до последнего цента. Я не мог не оценить всей иронии происшедшего: беглого грабителя ограбили, отобрав все награбленное. Что там говорила Карла перед моим отъездом? Ах да: «Не напивайся».
– У меня нет денег в Новой Зеландии, Прабу, – сказал я ему, когда мы вернулись в свой номер. – У меня нет родных или друзей, которые могли бы помочь, и я не могу обратиться в посольство.
– Нет денег? Совсем?
– Да, совсем.
– И ты не можешь ниоткуда их достать? Ни из какого места?
– Нет, – ответил я, упаковывая свой вещмешок.
– Это очень большая проблема, Лин, если ты простишь, что я говорю это прямо в твое побитое и нацарапанное лицо.
– Я знаю. Как ты думаешь, мы можем загнать мои часы хозяину гостиницы?
– Да, Лин. Я очень уверенно думаю это. Это очень замечательные часы. Но я не так уверенно думаю, что он заплатит большую справедливую цену. В таких делах индийский бизнесмен прячет свою религию в самый задний карман и выдвигает на тебя очень жесткую торговлю.
– Это не важно, – сказал я, застегивая пряжки на рюкзаке. – Главное, чтобы мы могли заплатить за номер и купить билеты на поезд до Бомбея. Упаковывай свои вещи, и пойдем.
– Это очень-очень серьезная проблема, Лин, – продолжал причитать Прабакер, когда мы, закрыв дверь номера, шли по коридору. – Если в Индии нет денег, в этом совсем нет ничего забавного, это точно.
Он нахмурился, сжав губы, и сохранял эту мину до самого Бомбея. Деньги, вырученные за часы, позволили мне не только расплатиться за номер в Аурангабаде и купить билеты на поезд, но и прожить два-три дня в «Индийской гостинице» Бомбея. Закинув пожитки в свой старый номер, я проводил Прабакера до холла, безуспешно пытаясь возродить маленькое чудо его улыбки.
– Оставь все эти неблагополучия под моим присмотром, – произнес он на прощание очень серьезно и торжественно. – Ты увидишь, я сделаю тебе счастливый результат.
Наблюдая, как он спускается по лестнице, я услышал, что портье Ананд обращается ко мне на маратхи.
Я улыбнулся ему, и мы начали беседовать на этом языке. За шесть месяцев, проведенных в деревне, я научился говорить на маратхи, употребляя самые простые повседневные слова и фразы. Мои успехи были весьма скромными, но явно произвели на Ананда впечатление. Спустя несколько минут он позвал других служащих гостиницы и коридорных, чтобы они послушали, как я говорю на их языке. Все они тоже были поражены и восхищены. Им приходилось иметь дело с иностранцами, говорящими на хинди, и даже неплохо, но никто ни разу не видел такого, кто мог изъясняться на их родном и любимом маратхи.
Они закидали меня вопросами о деревне Сундер, о которой никогда не слышали, и мы побеседовали о деревенской жизни, хорошо известной им по их собственному прошлому. Вспоминая свои родные места, все они чуточку идеализировали их. Наговорившись с ними, я вернулся в свой номер, и почти сразу же раздался робкий стук в дверь.
– Простите меня, пожалуйста, за беспокойство, – сказал высокий худой турист, по виду немец или швейцарец, с клочковатой бородкой, прилепившейся к нижнему концу его длинного лица, и русыми волосами, заплетенными в толстую косичку. – Я слышал, как вы разговаривали с портье и коридорными, и понял, что вы живете в Индии уже давно… А мы… на джа, мы с моей знакомой приехали только сегодня… Мы хотели бы достать немного гашиша. Может быть… может быть, вы знаете, где можно его купить так, чтобы нас не обманули и не было неприятностей с полицией?
Разумеется, я знал. В тот же день я помог им не только достать гашиш, но и обменять валюту на черном рынке, проследив, чтобы сделка была справедливой. Бородатый немец и его подружка были очень благодарны мне и заплатили комиссионные. Продавцы на черном рынке, друзья и партнеры Прабакера по подпольному бизнесу, были рады, что я привел к ним новых клиентов, и тоже заплатили мне. Я знал, что на улицах Колабы полно иностранцев, нуждающихся в такой же помощи. Так беседа с Анандом и коридорными, случайно подслушанная иностранным туристом, подсказала мне, каким образом я могу заработать себе на жизнь.
Сложнее было с визой. Ананд, прописывая меня в гостинице, предупредил меня, что срок моей визы истек. Все бомбейские гостиницы были обязаны представлять городской администрации списки постояльцев, приехавших из-за рубежа, с указанием паспортных данных и срока их визы. Эти списки назывались «формой С», и полиция проверяла их очень тщательно. Нарушение визового режима считалось в Индии серьезным преступлением. Виновников могли упечь за решетку на два года, а служащие гостиниц, потворствовавшие нарушителям, облагались большими штрафами.
Ананд хмуро объяснил мне ситуацию, прежде чем записать меня в журнал постояльцев, указав фиктивные даты. Он благоволил ко мне, поскольку был родом из Махараштры и встретил в моем лице первого иностранца, с кем мог поговорить на своем родном языке. Он ничего не имел против того, чтобы нарушить один раз правила ради меня, но предупредил, что я должен срочно зайти в Отдел регистрации иностранцев полицейского управления и продлить визу.
Сидя в номере, я взвесил свои шансы. Шансы были невелики, запас наличных и того меньше. И хотя я случайно обнаружил источник дохода в виде посредничества между иностранцами и черным рынком, я не был уверен, что смогу зарабатывать этим достаточно для того, чтобы проживать в гостинице и обедать в ресторанах. И тем более для того, чтобы улететь в какую-нибудь другую страну. К тому же я уже просрочил визу и формально был правонарушителем. Правда, Ананд уверял меня, что в полиции посмотрят на просрочку сквозь пальцы, сочтя, что я допустил ее по невнимательности, но я не хотел рисковать, обратившись в Отдел регистрации. Таким образом, я не мог продлить визу, а без продленной визы не мог жить в гостинице. Выход из этой ловушки мне преграждали, с одной стороны, установленные порядки, а с другой – превратности бесприютной жизни беглеца.
Лежа на постели, я слушал в темноте звуки, доносившиеся с улицы через открытое окно: призывы продавца пана, расхваливавшего свой бесподобный ароматный товар, голос торговца арбузами, разносившийся гулким эхом во влажном вечернем воздухе, лихие выкрики уличного акробата, выделывавшего свои потогонные упражнения перед толпой туристов, и, само собой разумеется, музыку. Интересно, жил ли когда-либо на земле другой народ, любивший музыку так, как ее любят индийцы?
Музыка невольно навевала воспоминания о деревне, которых я старательно избегал. Перед самым нашим отъездом из Сундера жители пригласили меня поселиться у них постоянно, предложили дом и работу. В течение трех последних месяцев я помогал учителю сельской школы, давая уроки разговорного английского. Я поправлял его произношение, отличавшееся сильным местным акцентом. Учитель вместе с деревенским советом особенно настойчиво уговаривал меня остаться. В деревне нашлись и место для меня, и занятие.
Но я не мог туда вернуться. Тогда не мог. В городе можно прожить, зажав свои израненные сердце и душу в кулак, но в деревне они должны открыто светиться в твоих глазах. Я же постоянно, каждый час моей жизни, носил с собой свое преступление и свое наказание. Судьба, которая помогла мне вырваться из тюрьмы на свободу, не позволяла мне свободно жить в мире. И рано или поздно, глядя в мои глаза, люди поймут это. Рано или поздно наступит час расплаты. В течение полугода я выдавал себя за человека, живущего в ладу с миром, и был по-настоящему счастлив там, но душа моя не была чиста. Ради сохранения своей свободы я был способен на многое – может быть, даже на убийство.
Я знал это и понимал, что мое присутствие в деревне оскверняет ее. Каждая обращенная ко мне улыбка была добыта обманом. Когда ты живешь вне закона, в твоем смехе всегда слышится эхо лжи, каждое проявление любви становится отчасти воровством.
В дверь постучали. Я крикнул, что она открыта. Вошел Ананд и сообщил с досадой, что ко мне явился Прабакер с двумя друзьями. Я похлопал Ананда по спине в благодарность за его заботу о моем спокойствии, и мы вышли в холл.
– Лин! – просиял Прабакер, увидев меня. – У меня есть очень хорошая новость для тебя! Это мой друг Джонни Сигар. Он мой очень важный друг в джхопадпатти – поселке, где мы живем. А это Раджу. Он помощник мистера Казима Али Хусейна, который у нас в трущобах самый главный.
Я пожал руки обоим. Джонни Сигар был примерно такого же роста и сложения, что и я, то есть крупнее среднего индийца. На вид ему было лет тридцать. У него было умное и открытое, несколько продолговатое лицо. Глаза песочного цвета глядели твердо и уверенно. Над решительным подбородком и выразительным ртом тянулась ниточка аккуратно подстриженных усов. Раджу был лишь чуточку выше Прабакера и еще более худощав, чем он. На его кротком лице застыло печальное выражение, невольно вызывавшее сочувствие. Это была печаль, которая, увы, слишком часто свойственна предельно честным, неподкупным натурам. Густые брови нависали над его умными темными глазами. Эти внимательные, все понимающие глаза глядели на меня с усталого, преждевременно состарившегося лица – ему, должно быть, было всего лет тридцать пять. Оба индийца понравились мне с первого взгляда.
Мы поговорили некоторое время о деревне Прабакера. Они расспрашивали меня о моих впечатлениях. Интересовало их и мое мнение о Бомбее – что мне нравится в нем больше всего, как я провожу здесь время. Я пригласил их продолжить разговор за чаем в каком-нибудь из ближайших ресторанов или закусочных, но Прабакер отклонил приглашение.
– Нет-нет, Лин, – сказал он, покачав головой. – Нам надо идти. Я просто хотел, чтобы ты познакомился с Джонни и Раджу и чтобы они тоже увидели твою добрую личность. Я думаю, что Джонни хочет сказать тебе одну вещь, не прав ли я? – обратился он к другу, выжидательно раскрыв рот и глаза и подняв руки.
Джонни Сигар нахмурился и ответил ему сердитым взглядом, но затем повернулся ко мне с широкой улыбкой.
– Мы решили, что ты будешь жить с нами, – объявил он. – Ты хороший друг Прабакера. У нас есть для тебя место.
– Да, Лин! – поспешил добавить Прабакер. – Одна семья завтра уезжает, и послезавтра их дом будет свободен для тебя.
– Но я… но я… – ошарашенно выдавил я, испытывая одновременно благодарность за их щедрое приглашение и ужас при мысли о жизни в трущобах.
Я слишком хорошо помнил свой визит туда вместе с Прабакером. Запах из открытых уборных, вопиющая нищета, многотысячный людской муравейник, – на мой взгляд, это был сущий ад, символ самого или почти самого большого несчастья, какое может случиться с человеком в наше время.
– Без проблем, Лин, – рассмеялся Прабакер. – Ты будешь очень счастливым с нами, вот увидишь. Ты знаешь, ты уже сейчас выглядишь как другой человек, правда, а когда проживешь несколько месяцев с нами, то будешь выглядеть совсем так же, как все мы. Все будут думать, что ты уже много-много лет живешь в трущобах. Вот увидишь.
– Это надежное место, – сказал Раджу, прикоснувшись к моей руке. – Ты будешь жить там спокойно, пока не накопишь денег. Наш отель бесплатный.
Прабакер и Джонни рассмеялись, и я вместе с ними. Мне передались их оптимизм и уверенность. В трущобах грязь и невообразимая толчея, но там мне не надо будет заполнять «форму С», там я буду свободен. У меня будет время подумать о дальнейшем.
– Ну что ж… Спасибо вам, Прабу, Раджу, Джонни. Я согласен. Я очень вам благодарен.
– Без проблем, – сказал Джонни Сигар, пожимая мне руку и глядя на меня открытым, испытующим взглядом.
Я не знал, что сам Казим Али Хусейн, «главный человек в трущобах», послал Джонни и Раджу, чтобы они посмотрели, что я собой представляю. Думая только о себе и о пугающих условиях трущобной жизни, я по недомыслию принял их приглашение без особого энтузиазма. Я не знал, какую ценность представляет жилье в их поселке и сколько семей ожидает, когда наступит их очередь занять освободившееся помещение. Мне и в голову не могло прийти, что, предлагая мне дом, поступаются интересами какой-то семьи, которой он жизненно необходим. Посылая ко мне своих помощников, Казим Али Хусейн поставил перед Раджу задачу разобраться, смогу ли я жить с ними, а Джонни должен был определить, смогут ли они жить со мной. В ту первую встречу я чувствовал только, что сердечное рукопожатие Джонни говорит о возможности будущей дружбы, а в печальной улыбке Раджу видел больше понимания и доверия, чем я заслуживал.
– Хорошо, Лин, – улыбнулся Прабакер. – Послезавтра мы придем, чтобы взять все-все твои вещи и твою благородную личность вместе с ними, ближе к вечеру.
– Хорошо. Спасибо, Прабу. Но постой! А как же наша послезавтрашняя экскурсия?
– А что с нашей послезавтрашней экскурсией?
– Но мы же собирались пойти к Стоячим монахам.
Речь шла о мужском монастыре в пригороде Байкулла, где безумные монахи-фанатики содержали притон для курения гашиша. Несколько месяцев назад мы уже были там с Прабакером, когда он знакомил меня с темными сторонами бомбейской жизни. По пути из деревни я взял с него обещание, что он сводит меня к Стоячим монахам еще раз вместе с Карлой. Она никогда не видела этого монастыря и была чрезвычайно заинтригована теми слухами, которые дошли до нее. Конечно, в тот момент, когда Прабакер с друзьями так гостеприимно пригласил меня к себе, напоминать об экскурсии было несколько бестактно, но мне очень хотелось показать монастырь Карле.
– Без проблем, Лин. Мы сделаем визит к этим Стоячим монахам вместе с мисс Карлой, а потом возьмем твои вещи. Я приду сюда за тобой послезавтра в три часа. Я так рад, Лин, что ты будешь трущобным жителем вместе с нами! Я так рад!
Мы спустились и вышли на улицу. Прабакер, Джонни и Раджу смешались с толпой. Таким образом, мои затруднения были преодолены. У меня появилась возможность заработать немного денег и надежное место, где я мог жить. И мои мысли, словно освободившись от этих забот, направились, петляя по улицам и переулкам, к дому Карлы, к окнам ее квартиры на первом этаже и высоким застекленным дверям, выходившим в мощенный булыжником переулок. Но эти двери были закрыты передо мной, и я безуспешно пытался вызвать в воображении ее образ, ее лицо и глаза. Я вдруг осознал, что, став владельцем убогой каморки в трущобах, я могу потерять ее, что, скорее всего, так и произойдет. Как мне представлялось в тот момент, я слишком низко паду, чтобы встречаться с ней, мой стыд разделит нас не менее безжалостно и непреодолимо, чем тюремная стена.
Вернувшись в свой номер, я лег спать. Переезд в трущобы даст мне время и разрешит проблему с визой, пусть и не совсем так, как хотелось бы. Груз этих забот спал с моих плеч, и к тому же я очень устал, так что должен был бы спать без задних ног. Однако сон мой был беспокойным. Как выразился Дидье во время одного из бесконечных полночных разговоров, во сне наши желания встречаются с нашими страхами. «А когда твое желание и твой страх – одно и то же, – сказал он, – это называется кошмаром».
Глава 8
Стоячие монахи давали обет ни разу за всю оставшуюся жизнь не присаживаться и не ложиться. Они стояли и днем и ночью, постоянно. Стоя они ели, стоя отправляли естественные потребности. Стоя они молились и пели. Даже спали они стоя, подвешенные на лямках, которые удерживали их в вертикальном положении, не позволяя в то же время упасть.
Лет через пять-десять непрерывного стояния ноги их начинали распухать. Кровь с трудом перемещалась по уставшим сосудам, мышцы утолщались. Ноги раздувались до невероятных размеров, теряли всякую форму и покрывались варикозными язвами. Пальцы едва заметно выступали на распухших, слоновьих ступнях. А затем ноги начинали худеть и худеть, пока не оставались одни кости, покрытые тонкой пленкой кожи с просвечивающими высохшими венами, напоминающими муравьиную тропу.
Боль, которую они испытывали ежеминутно, была мучительной. При каждом нажатии на ступню острые иглы пронзали всю ногу. Из-за этой непрекращающейся пытки монахи не могли стоять спокойно и то и дело переступали с ноги на ногу, раскачиваясь в своем медленном танце, который так же гипнотизировал зрителя, как действуют на кобру руки заклинателя, плетущие на флейте усыпляющую мелодию.
Некоторые из Стоячих монахов давали обет в шестнадцать или семнадцать лет, влекомые призванием, которое побуждает других становиться священниками, раввинами или имамами. Многие отвергали окружающий мир в более старшем возрасте, рассматривая его лишь как подготовку к смерти, одну из ступеней вечного перевоплощения. Немало монахов были в прошлом бизнесменами, безжалостно сметавшими все и вся на своем пути в погоне за удовольствиями, выгодами, властью. Встречались среди них и набожные люди, которые сменили несколько конфессий, все больше ужесточая приносимые ими жертвы, пока в конце концов не присоединялись к секте Стоячих монахов. Попадались в монастыре и преступники – воры, убийцы, члены мафий и даже их главари, – стремившиеся искупить свои грехи бесконечными муками и найти душевный покой.
Курильня представляла собой узкий проход между двумя кирпичными зданиями позади храма. На принадлежавшей храму территории располагались отгороженные от внешнего мира сады, галереи и спальные помещения, куда допускались лишь те, кто дал монашеский обет. Притон имел крышу из железных листов, пол был вымощен каменными плитами. Монахи входили через дверь в дальнем конце коридора, а все остальные – через металлическую калитку со стороны улицы.
Посетители, приехавшие сюда со всех концов страны и принадлежавшие к разным слоям общества, выстраивались вдоль стен. Разумеется, все стояли – садиться в присутствии Стоячих монахов не полагалось. Около входа с улицы над открытой сточной канавкой был устроен кран, где можно было выпить воды или сплюнуть. Монахи переходили от человека к человеку, от одной группы к другой, готовили гашиш в глиняных чиллумах[53 — Чиллум – глиняная или стеклянная трубка с раструбом на конце, используемая для курения наркотиков.] и курили вместе с посетителями.
Лица монахов буквально излучали страдание. Рано или поздно каждый из них, пройдя через непрерывные многолетние муки, начинал находить в них священное блаженство. Свет, порожденный мучениями, струился из глаз Стоячих монахов, и мне никогда не встречались люди, чьи лица сияли бы так, как их выстраданные улыбки.
К тому же они всегда были до предела накачаны наркотиком и, пребывая в мире своих неземных грез, имели чрезвычайно величественный вид. Они не употребляли ничего, кроме кашмирского гашиша, лучшего в мире сорта, который изготавливается из конопли, выращиваемой у подножия Гималаев в Кашмире. Монахи курили его всю свою жизнь, и днем и ночью.
Мы с Карлой и Прабакером стояли у дальней стены коридора. Позади нас была запертая дверь, через которую вошли монахи, а спереди – две шеренги людей, тянувшиеся вдоль стен до самого выхода на улицу. Некоторые мужчины были одеты в европейские костюмы или джинсы, сшитые по авторской модели. Рядом с ними стояли рабочие в набедренных повязках и люди в национальной одежде, прибывшие из самых разных уголков Индии. Среди них были старые и молодые, богатые и бедные. Глаза их то и дело обращались на нас с Карлой, двух бледнолицых иностранцев. Некоторые были явно шокированы тем, что в их ряды затесалась женщина. Но, несмотря на всеобщее любопытство, никто не подошел и не заговорил с нами, их внимание было в основном сосредоточено на Стоячих монахах и гашише. Приглушенные голоса переговаривающихся посетителей сливались с музыкой и обрядовыми песнопениями, лившимися из спрятанных динамиков.
– Ну и как это все тебе? – спросил я.
– Это невероятно! – ответила Карла.
Глаза ее блестели в мягком свете прикрытых абажурами ламп. Она была возбуждена и, возможно, немного нервничала. После курения чараса мышцы ее лица и плеч несколько расслабились, на губах появилась улыбка, но в глазах проскакивали тигриные искорки.
– Это что-то ужасное и священное одновременно, – проговорила она. – И я никак не могу понять, что именно является ужасным, а что – священным. Слово «ужасное», может быть, не совсем подходит, но оно близко к истине.
– Я понимаю, что ты имеешь в виду, – многозначительно кивнул я, довольный тем, что Стоячие монахи произвели на нее впечатление.
Она прожила в Бомбее пять лет и много раз слышала о монастыре, но была здесь впервые. По моему тону можно было подумать, что я тут завсегдатай, на самом же деле опыт у меня был весьма ограниченный. Без Прабакера, с его чарующей улыбкой, нас сюда вообще не впустили бы.
Один из Стоячих монахов подошел к нам вместе с мальчиком-прислужником, державшим серебряный поднос с чарасом, чиллумами и прочими принадлежностями для курения. Другие монахи растянулись по всему коридору и, покачиваясь, распевали молитвы и курили. Тот, что подошел к нам, был высок и худ, но ноги его страшно распухли, на них пульсировали чудовищно разбухшие канаты вен. На осунувшемся лице отчетливо выступали височные кости, а под мощными скулами начинались глубокие впадины щек, переходившие в крепко сжатые голодные челюсти. Огромные глаза светились из-под бровей таким безумством, тоской и любовью, что он вызывал одновременно страх и безмерное сострадание.
Монах приготовил нам чиллумы, покачиваясь из стороны в сторону и улыбаясь отсутствующей улыбкой. Он ни разу не поднял на нас глаз, но улыбался нам, как старый друг, со снисхождением и пониманием. Он стоял так близко ко мне, что я видел каждый прутик его кустистых бровей и слышал прерывистое дыхание. Воздух выходил из его легких с шумом, напоминавшим шелест волн, набегающих на берег. Закончив приготовления, монах посмотрел на меня, и я на миг затерялся в том мире, который открылся мне в его глазах. На какой-то момент я почти почувствовал всю бесконечность его страданий и силу воли, позволявшую ему переносить их. Я почти понял его улыбку, в которой светилось безумство. Я был уверен, что улыбка предназначалась мне, что он хочет, чтобы я понял. И я постарался ответить ему глазами, что я почти чувствую его состояние, почти ощущаю. Затем он поднес чиллум ко рту, раскурил его и передал мне. Возникший на миг контакт с его бесконечной болью стал ослабевать, видение поблекло и растаяло вместе с клубами белого дыма. Монах повернулся и, шатаясь и бормоча молитву, медленно направился в другой конец помещения.
В этот момент пронзительный крик прорезал воздух. Все повернулись ко входу с улицы, откуда крик донесся. Возле железной калитки стоял человек в красном тюрбане, жилете и шелковых шароварах – костюме одного из северных индийских племен – и вопил что было мочи. Прежде чем люди успели понять, в чем дело, и как-то отреагировать, человек выхватил висевшую на поясе саблю и, подняв ее над головой, направился широким шагом вдоль прохода. При этом он смотрел не отрываясь прямо на меня. Что именно он кричал, я не мог разобрать, но намерения его были предельно ясны. Он собирался напасть на меня. Он хотел убить меня.
Люди по сторонам коридора инстинктивно вжались в стены. Стоячие монахи поспешили убраться с его пути. Дверь позади нас была заперта, я был безоружен. Человек приближался к нам, крутя обеими руками саблю над головой. Деваться было некуда, и оставалось только постараться отразить его нападение. Я сделал шаг назад правой ногой и поднял сжатые кулаки, заняв стойку карате. Семь лет обучения восточному единоборству пульсировали в моих руках и ногах. Я не испытывал страха. Как все известные мне ожесточенные люди, я по возможности избегал столкновений, но, если схватка становилась неизбежной, я получал от нее удовольствие.
Но в самый последний момент какой-то человек отделился от стены, перехватил выступавшего церемониальным шагом меченосца поперек туловища и с силой бросил его на пол. Сабля выпала и откатилась к ногам Карлы. Я поднял ее, а наш спаситель прижал нападавшего к полу, вывернув его руку за спину, и одновременно затянул ворот его рубашки на шее, затрудняя дыхание. Гнев и безумие, владевшие воякой, сразу утихли, и он пассивно подчинился более сильному. Несколько человек, очевидно знавших его, подхватили его под руки и вывели на улицу. Затем один из них вернулся, подошел ко мне и, требовательно глядя в глаза, протянул обе руки за саблей. Поколебавшись, я отдал ему саблю, он поклоном попросил у нас извинения и покинул притон.
Все разом возбужденно заговорили. Я с тревогой посмотрел на Карлу. Глаза ее расширились, на губах играла удивленная улыбка, но происшествие явно не выбило ее из колеи. Успокоившись на ее счет, я направился к человеку, выручившему нас. Это был мужчина чуть выше меня, мощного, атлетического сложения. Густые черные волосы, намного длиннее, чем у большинства бомбейцев в те дни, были собраны в косичку на затылке. На нем были черная шелковая рубашка и свободные черные брюки, на ногах черные кожаные сандалии.
Я представился, и он в ответ назвал свое имя: Абдулла Тахери.
– Я твой должник, Абдулла, – сказал я, улыбаясь достаточно учтиво, но с искренней благодарностью.
Он обезоружил человека с саблей с таким убийственным изяществом, что казалось, это далось ему без всяких усилий. Но я понимал, что это ложное впечатление. Я знал, сколько смелости и мастерства для этого требуется и как важно уметь инстинктивно рассчитать все движения. Абдулла Тахери был прирожденным борцом.
– Еще чуть-чуть – и мне пришлось бы плохо, – добавил я.
– Без проблем, – улыбнулся он. – Этот человек был пьян или потерял рассудок.
– В каком бы он ни был состоянии, я твой должник, – повторил я.
– Да брось, – рассмеялся Абдулла, обнажив белые зубы.
Смех его был естествен и исходил из глубины груди, – поистине, он смеялся от всего сердца. Глаза его были такого же цвета, какой приобретает песок у тебя на ладони за несколько минут до того, как солнце опустится за морской горизонт.
– Все равно я хочу, чтобы ты знал, что я тебе благодарен.
– Ладно, – ответил он, хлопнув меня по плечу.
Я вернулся к Карле и Прабакеру. Когда мы выходили, Абдуллы уже не было видно. Улица была пустынна; через несколько минут мы поймали такси. По пути в Колабу Карла не заговаривала со мной, я тоже молчал, расстроенный тем, что моя попытка доставить ей удовольствие закончилась так сумбурно и едва не плачевно. Только Прабакеру ничто не мешало болтать.
– Какое чудесное повезение! – восклицал он, оборачиваясь к нам. – Я так и думал, что этот тип изрубит нас на мелкие кусочки. Некоторым людям нельзя курить чарас, не прав ли я? Некоторые люди становятся слишком сердитыми, когда их мозги расслабляются.
Возле «Леопольда» я вышел из машины вместе с Карлой, попросив Прабакера подождать меня. Волны вечерней гуляющей публики огибали наш островок молчания.
– Ты не зайдешь? – спросила она.
– Нет, – ответил я, жалея, что не выгляжу тем суровым героем, каким я представлялся себе в этой сцене весь день. – Я сейчас возьму свои вещи в «Индийской гостинице» и перееду в трущобы. И знаешь, я не буду появляться в «Леопольде» в ближайшее время, да и в других местах тоже. Мне надо… ну, в общем, стать на ноги… Понимаешь… надо прочно стоять на ногах… А потом… Уф!.. О чем я говорил?
– О своих ногах.
– Ну да, – рассмеялся я. – Надо предпринимать какие-то шаги, с чего-то начать.
– То есть это что-то вроде прощания?
– Да нет… То есть да.
– И при этом ты только-только вернулся из деревни.
– Да, – опять засмеялся я. – Из деревни прямо в трущобы. Гигантский скачок.
– Главное при этом – устоять…
– На ногах. Да. Я понимаю.
– Послушай, если это из-за денег…
– Нет, – выпалил я. – Нет, я хочу этого. Тут не только деньги. Дело в том…
Секунды три я колебался, не поделиться ли с ней своей визовой проблемой. Ее подруга Летти знала кого-то в Отделе регистрации иностранцев. Она помогла с визой Маурицио и, наверное, могла помочь мне. Но я ничего не сказал ей и просто улыбнулся. Если бы я рассказал ей о визе, это вызвало бы вопросы, на которые я не мог ответить. Я был влюблен в Карлу, но не был уверен, что могу ей полностью доверять. Когда живешь вне закона, то доверяешь не всем, кого любишь. Понятно, для тех, кому нечего бояться, справедливо прямо противоположное.
– Дело в том, что мне кажется, это будет интересно. Настоящее приключение. Мне… даже не терпится туда переехать.
– Хорошо, – кивнула она. – Но ты знаешь, где я живу. Заходи, когда представится случай.
– Ну конечно, – заверил я ее, и мы оба улыбнулись, зная, что я не зайду. – Конечно. А ты знаешь, где я буду жить вместе с Прабакером. Так что заходи тоже.
Она взяла меня за руку и, наклонившись, поцеловала в щеку. Затем повернулась, чтобы уйти, но я задержал ее руку в своей.
– Ты не дашь мне на прощание какой-нибудь совет? – спросил я, пытаясь улыбнуться.
– Нет, – ответила она ровным тоном. – Я дала бы тебе совет только в том случае, если бы мне было безразлично, что произойдет с тобой.
Это было кое-что. Не много, конечно, но достаточно, чтобы держаться за это и надеяться. Она ушла. Я смотрел, как она вошла под арку и растворилась в яркой, беспечной и ненадежной атмосфере «Леопольда». Я знал, что дверь в ее мир для меня закрылась – по крайней мере, на какое-то время. Пока я живу в трущобах, это маленькое царство света будет для меня недоступно. Трущобы спрячут и поглотят меня, и я исчезну в них так же бесследно, как если бы этот чокнутый с саблей перерубил меня надвое.
Я забрался в такси и посмотрел на Прабакера, чья улыбка олицетворяла теперь для меня весь мой мир.
– Тхик хайн. Чало! – сказал я. – Ну вот и все. Поехали!
Спустя сорок минут мы затормозили напротив трущоб в Кафф-парейде, рядом с Центром мировой торговли. Контраст между ним и соседствующими лачугами был ошеломляющим. Справа высилось колоссальное современное здание со всеми удобствами, вплоть до воздушных кондиционеров. Три нижних этажа были отведены под магазины, выставлявшие напоказ шелка и бриллианты, ковры и искусные ремесленные изделия. Слева на десять акров раскинулась жалкая нищета, где в семи тысячах крошечных лачуг ютились двадцать пять тысяч самых бедных бомбейцев. Справа сияли неоновые рекламы и фонтаны с подсветкой. Слева не было электричества, водопровода, нормальных туалетов, а главное, уверенности, что весь этот муравейник не будет в любой момент сметен по прихоти тех, кто до поры до времени мирился с его существованием.
Я отвернулся от сверкающих лимузинов, припаркованных у торгового центра, и начал свой путь в трущобы. Недалеко от входа находился открытый туалет, скрытый от глаз высокой травой и тростниковыми циновками. Отвратительная вонь царила повсюду, как будто была одной из составляющих воздуха; мне казалось, что она облепила толстым слоем мою кожу. Задыхаясь, я подавил позыв к рвоте и взглянул на Прабакера. Лицо его померкло, на нем впервые промелькнуло циничное выражение.
– Видишь, Лин, – сказал он, и улыбка его, вместо того чтобы расплыться по всему лицу, уехала куда-то вбок, – видишь, как живут люди?
Однако, после того как мы миновали туалет и подошли к первым домикам, я почувствовал порывы ветра, который долетал с дальнего конца поселка, выходившего широкой дугой к морю. Ветер не разгонял зной и духоту, но туалетное зловоние ослабло. Здесь преобладали запахи кухни, специй, благовоний. На близком расстоянии хижины представляли собой жалкое зрелище. Они были сооружены из кусков пластмассы и картона или тростниковых циновок, натянутых на тонкие бамбуковые шесты, воткнутые в землю. Полом в хижинах служила земля. Кое-где, правда, виднелись бетонные проплешины и островки каменной кладки – остатки домов, некогда стоявших на этом месте, но давным-давно снесенных.
Пока мы шли узким пластиково-тряпочным проулком, по трущобам разнеслась весть, что прибыл иностранец. Сбежалась орава детей, окруживших нас с Прабакером, но вплотную не приближавшихся. Глаза их были круглыми от любопытства и возбуждения. Они перекликались, заходились в нервном смехе и кружились в беспорядочном импровизированном танце.
Изо всех домиков высыпали их обитатели. Десятки и сотни людей толпились в дверях и в проходах между домами. Все они смотрели на меня так озабоченно и хмурились так испытующе, что мне казалось, они хотят испепелить меня своим взглядом. Разумеется, это было не так. Я не понимал тогда, что это просто удивление. Они не могли уразуметь, что за демоны преследуют меня, заставляя бояться того места, которое служило для них убежищем, спасением от несравненно худшего удела, нежели жизнь в трущобах.
И мне ведь тоже, при всех моих страхах перед этим столпотворением и убожеством, было знакомо существование куда более скверное. Настолько скверное, что я бежал от него, перебравшись через тюремную стену и оставив позади все, что я знал, все, что любил, все, чем я был.
– Вот это будет теперь твой дом, Лин! – громко объявил Прабакер, стараясь перекричать детский гомон и останавливаясь перед одной из хижин. – Заходи, познакомься.
Лачуга была такой же, как и все окружавшие ее. Крышей служил лист черной пластмассы, а опорными балками – бамбуковые шесты, связанные бечевкой из кокосового волокна, между которыми были натянуты изготовленные вручную тростниковые циновки. Земляной пол был утрамбован до гладкости ногами предыдущих жильцов. Тонкая фанерная дверь висела на веревочных петлях. Потолок был таким низким, что мне приходилось пригибаться. В комнате можно было сделать четыре шага в длину и два в ширину – совсем как в тюремной камере.
В одном из углов я пристроил свою гитару, в другом поставил портативную аптечку. У меня была пара проволочных вешалок, на которых я развесил в самом высоком углу свою одежду. В это время Прабакер окликнул меня с улицы.
Я вышел и увидел перед собой Прабакера, Джонни Сигара, Раджу и еще несколько человек.
– Это Ананд, твой сосед с одной стороны – с левой, – представил мне Прабакер высокого красивого молодого сикха, чьи длинные волосы были обмотаны желтым шарфом.
Мы обменялись рукопожатием.
– Привет, – сказал я, подивившись силе этого рукопожатия. – Я знаю еще одного Ананда – портье из «Индийской гостиницы».
– Он хороший человек? – спросил Ананд, нахмурившись чуть озадаченно.
– Да. Он мне нравится.
– Это хорошо, – одобрительно произнес Ананд с мальчишеской улыбкой, сводившей на нет всю серьезность его тона. – Значит, мы с тобой уже наполовину друзья, на?
– Ананд живет в одном доме с другим холостяком, по имени Рашид, – продолжил церемонию представления Прабакер.
Рашиду было лет тридцать. Всклокоченная борода свисала с его заостренного подбородка. Он устало улыбнулся, обнажив заметно выступающие вперед зубы. При улыбке глаза его щурились, придавая ему хитрый и чуть ли не злобный вид.
– А с другой стороны – наш очень хороший сосед Джитендра. У его жены имя Радха.
Джитендра был приземистым толстяком. Он все время радостно улыбался и энергично потирал свой животик. Его жена Радха в ответ на мой почтительный кивок и улыбку тоже улыбнулась и приветственно прикрыла лицо красным платком, зажав его конец в зубах.
– Знаете, – неожиданно произнес Ананд светским тоном, – мне кажется, начался пожар.
Он приподнялся на носках, защитив глаза рукой от вечернего солнца и вглядываясь в даль поверх черных крыш. Все посмотрели в ту же сторону. Наступила липкая, тревожная тишина. И вдруг в нескольких сотнях метров от нас к небу взметнулся пышный султан оранжевого пламени. Раздался раскатистый взрыв, будто из пулемета прошили стену металлического сарая. Все сломя голову кинулись в том направлении.
Я остался на месте, зачарованно глядя на огонь и поднимавшиеся по спирали клубы дыма. Тем временем отдельные языки пламени слились в сплошную сверкающую стену. Эта красно-желто-оранжевая стена, подгоняемая ветерком с моря, продвигалась все дальше, поглощая все новые и новые хижины. Она приближалась ко мне со скоростью пешехода, испепеляя все на своем пути.
То тут, то там на огненном фронте что-то взрывалось. Я понял, что это керосиновые плитки, содержавшие закачанное под давлением топливо. Последние муссонные дожди прошли несколько недель назад. Трущобы же были ни дать ни взять куча сухих щепок для растопки, и морской ветер беспрепятственно гнал по всей территории огонь, подпитывавшийся топливом и охотившийся на людей.
Я был ошеломлен и, хотя в панику не ударился, решил, что дело гиблое. Вбежав в лачугу, я схватил свои пожитки и выскочил обратно. На пороге я уронил мешок и стал подбирать рассыпавшиеся вещи, но тут увидел группу примерно из двадцати женщин и детей. Они стояли и смотрели на меня. И без слов было понятно, что они думают. В их глазах я читал как по бумаге: «Вот большой, сильный иностранец, и он спасается бегством, в то время как наши мужчины побежали сражаться с огнем».
Пристыженный, я запихнул вещи в мешок, кинул его у ног только что представленной мне соседки Радхи и бросился к центру пожара.
Трущобы разрастаются естественным образом, без определенного плана. Проходы между хижинами, конечно, ведут куда-то, но никакого порядка в их расположении нет. Сделав два-три поворота, я потерял ориентировку, но в этот момент столкнулся с цепочкой мужчин, спешивших на пожар. В противоположном направлении тянулись спасающиеся от огня старики и дети. Некоторые тащили свое имущество – одежду, кухонную утварь, плиты и картонные коробки с документами. У многих из них имелись ожоги, порезы и кровоточащие раны. В воздухе стоял острый, раздражающий запах горящей пластмассы, одежды, топлива, волос и мяса.
Спустя какое-то время я услышал сквозь человеческие крики рев огня. Внезапно какой-то ослепительный огненный шар устремился ко мне из бокового прохода. Шар вопил. Это была объятая пламенем женщина. Она налетела на меня.
Мои волосы, брови и ресницы сразу обгорели, и первым моим побуждением было отскочить в сторону. Но она упала на спину, продолжая кричать и молотить ногами. Я сдернул с себя рубашку, разорвав ее на спине, и, прикрыв ею лицо и руки от огня, кинулся к женщине, пытаясь сбить с нее пламя своей одеждой и телом. Тут подскочили на помощь другие, и я помчался дальше. Женщина была еще в сознании, когда я оставил ее, но в голове у меня стучала мысль: «Для нее все кончено… Она не выживет…»
И вот я оказался прямо перед ужасающей разинутой огненной пастью. Огонь вздымался в высоту на несколько метров. Пожар надвигался дугообразным фронтом, охватывавшим не меньше пятидесяти хижин сразу. Разыгравшиеся порывы ветра бросали вперед, словно в разведку, языки пламени, которые устремлялись к нам, отступали и неожиданно появлялись с другой стороны. В самом огненном котле творился сущий ад – горели хижины, гремели взрывы, стлался ядовитый дым.
Перед наступающим огнем стоял какой-то человек, отдававший распоряжения добровольным пожарным, как полководец, направляющий свои войска на поле боя. Он был высок и худ, с седыми волосами и такой же серебристой остроконечной бородкой. На нем были белая рубашка, белые брюки и сандалии. Шею его обматывал зеленый шарф, а в руках он держал короткую деревянную палку с медным набалдашником. Так я впервые встретился с самым главным человеком в трущобах, Казимом Али Хусейном.
Казим Али разделил людей на две команды: в то время как одна из них старалась притушить огонь, другая сносила стоявшие на пути огня хижины, чтобы лишить его топлива. Приходилось, однако, постепенно отдавать огню все большую территорию, контратакуя, когда он ослабевал. Следя за надвигающимся огненным фронтом, главнокомандующий палкой направлял своих бойцов на наиболее опасные участки.
Когда Казим Али заметил меня с почерневшей рубашкой в руках, в полированной бронзе его глаз промелькнуло удивление, однако он без лишних слов указал мне палкой на огонь. Я с облегчением и гордостью подчинился его приказу и присоединился к одной из групп. В ней же оказался, к моей радости, и Джонни Сигар.
– Все в порядке! – крикнул он, задыхаясь от дыма. Его слова выражали не столько вопрос, сколько желание поддержать меня.
– Все в порядке! – крикнул я в ответ. – Нужна вода!
– Воды больше нет, – ответил он, – цистерна пуста. Новую воду подвезут только завтра. Люди уже израсходовали почти весь свой дневной рацион.
Как я выяснил позже, на каждую хижину, включая и мою, выделялось по два-три ведра воды в день на все нужды: питье, приготовление пищи, мытье, стирку. Людям приходилось гасить огонь водой, которая была нужна им для питья. Многие семьи после этого всю ночь мучились от жажды в ожидании, пока утром не привезут воду.
– Чертов огонь! – ругался Джонни, сбивая пламя мокрой мешковиной. – Ты хочешь погубить меня, ублюдок? Черта с два! Мы уничтожим тебя!
Неожиданно в нашу сторону метнулся большой оранжевый язык. Человек, стоявший рядом со мной, с криком упал, держась за обожженное лицо. Казим Али тут же послал ему на помощь спасательную команду. Схватив освободившийся мешок, я присоединился к Джонни, орудуя одной рукой, а другой защищая лицо.
Мы то и дело оглядывались на Казима Али Хусейна, чтобы получить указания. Конечно, мы не могли рассчитывать на то, что потушим пожар своими мокрыми тряпками. Нашей задачей было задержать его наступление, пока другая команда разрушает ближайшие хижины. Это была героическая работа. Люди приносили в жертву собственные дома ради спасения всего поселка. Чтобы выиграть время, Казим Али перемещал нас по всему фронту, как фигуры на шахматной доске, добиваясь успеха то на одном, то на другом участке.
Очередной порыв ветра атаковал нас и окутал черно-коричневым дымом, полностью скрывшим из виду Казима Али и заставившим нас отступить. Когда дым немного рассеялся, мы увидели зеленый шарф Казима Али, конец которого трепыхал на ветру. Наш командир невозмутимо стоял на месте, оценивая обстановку и рассчитывая следующий шаг. Зеленый шарф развевался над его головой как знамя. Ветер снова переменился, и мы с удвоенной энергией бросились в бой, воодушевленные мужеством и стойкостью этого человека.
Когда все было кончено, мы в последний раз прошлись по всем окружающим закоулкам, проверяя, не осталось ли там раненых и погибших. Затем мы собрались всей группой, чтобы выслушать горькое сообщение о результатах пожара. Погибли двенадцать человек, из них шестеро стариков и четверо детей. Более сотни получили ожоги и травмы, зачастую серьезные. Около шестисот домов было уничтожено – одна десятая всего поселка.
Джонни Сигар переводил мне все, что говорилось. Я слушал, наклонив к нему голову, а смотрел в это время на Казима Али, читавшего траурный список. Переведя взгляд на Джонни, я увидел, что он плачет. К нам сквозь толпу пробился Прабакер, и в этот момент Джонни сказал мне, что погиб Раджу – человек с печальным, честным и дружелюбным лицом, пригласивший меня жить в трущобах. Его больше не было.
– Нам чертовски повезло! – радостно резюмировал Прабакер, когда Казим Али закончил перечислять потери. Лицо Прабакера было покрыто таким толстым слоем копоти, что его глаза и зубы сверкали, как у какого-то сверхъестественного существа. – В прошлом году во время большого пожара сгорела треть всего джхопадпатти. Каждый третий дом – всего больше двух тысяч! Калас![54 — Конец (хинди); здесь: полностью.] И больше сорока человек умерли. Это слишком много, Лин, поверь мне. А в этом году очень удачный пожар. И наши дома уцелели! Да упокой Бхагван[55 — Бхагван – Бог, Всевышний (одно из имен Вишну).] душу нашего брата Раджу.
В толпе послышался какой-то шум, и мы увидели, что группа людей протискивается к Казиму Али. Женщина из спасательной команды несла на руках ребенка, которого вытащили из-под дымящихся обломков. Прабакер перевел мне слова окружающих. Загорелись сразу три соседние хижины и, рухнув, погребли под собой одну из семей. По какому-то необъяснимому капризу стихии родители этой маленькой девочки погибли от удушья, а сама она осталась жива. Лицо и тело ее не пострадали, но ноги были сильно обожжены, кожа на них почернела и растрескалась. Девочка кричала от ужаса и боли.
– Скажи им, чтобы они бежали за нами, и помоги мне добраться до моей хижины! – сказал я Прабакеру. – У меня есть лекарство и бинты.
Прабакер не раз видел мою внушительную походную аптечку, содержащую бинты и тампоны, мази и кремы, дезинфицирующие растворы, зонды и хирургические инструменты. Он сразу понял меня и крикнул что-то Казиму Али. Я услышал только, как окружающие повторяют слова «лекарство» и «доктор». Прабакер схватил меня за рукав и потащил в сторону хижины.
Раскрыв аптечку на земле перед хижиной, я обмазал ноги ребенка толстым слоем анестезирующей мази. Она оказала действие немедленно: девочка перестала кричать и лишь плакала, свернувшись на руках взрослого человека.
– Доктор… доктор… – послышалось вокруг.
Тем временем солнце скрылось в водах Аравийского моря, мягкая звездная ночь опустилась на город. Казим Али велел принести несколько ламп, и при их колеблющемся свете мы продолжали трудиться в этом импровизированном лазарете под открытым небом, оказывая помощь пострадавшим. Джонни Сигар и Прабакер выполняли роль медбратьев, санитаров и переводчиков. Наиболее распространенными травмами были ожоги, порезы и глубокие раны, но у многих из-за дыма были повреждены дыхательные пути.
Казим Али Хусейн понаблюдал какое-то время за нами, а затем ушел проследить за возведением временных убежищ для тех, кто остался без крова, распределением оставшихся запасов воды, приготовлением пищи и десятком других дел, которые наверняка затянутся до утра, а то и дольше. Рядом со мной вдруг появилась чашка чая. Его приготовила для меня моя соседка Радха. С того момента, как я приехал в трущобы, у меня во рту не было ни крошки и ни капли, и лучшего чая я не пил за всю свою жизнь. Час спустя она велела мужу и еще двум мужчинам оттащить меня от пострадавших и накормила меня пресными лепешками, рисом и баджи[56 — Баджи – жареные овощи.]. Овощи, приправленные карри и другими специями, были восхитительны, я даже вычистил тарелку куском хлеба.
Уже за полночь муж Радхи Джитендра потянул меня за рукав в мою хижину, где прямо на земле было разостлано одеяло ручной вязки. Раздевшись, я без сил рухнул на него и погрузился в свой первый сон в трущобах.
Когда я открыл глаза через семь часов (мне показалось, через семь минут), то увидел парившее в воздухе надо мной лицо Прабакера. Я поморгал и протер глаза. Это действительно был Прабакер – он сидел на корточках, подперев голову руками. Слева от него на корточках сидел Джонни Сигар, справа – Джитендра.
– Доброе утро, Линбаба! – сказал он, встретившись со мной взглядом. – Ты так громко храпишь, просто потрясающе. Джонни сказал, можно подумать, здесь быка привязали.
Джонни подтвердил это кивком, а Джитендра покачал головой из стороны в сторону.
– Старая Сарабаи знает первоклассное средство для храпения, – сообщил мне Прабакер. – Она может воткнуть тебе в нос очень острый кусочек бамбука длиной как мой палец. И после этого – никакого храпения. Бас! Калас![57 — Хватит! Конец! (хинди)]
Я сел на одеяле и потянулся – спина и плечи затекли. Глаза все еще резало после борьбы с огнем, а волосы, казалось, пропитались дымом. Все помещение пронизывали копья утреннего света, проникавшего сквозь дыры в стенах.
– Что ты тут делаешь, Прабу? – спросил я раздраженно. – Давно вы так сидите?
– Не очень давно, Лин. Может быть, около получаса.
– Знаешь, это не очень-то вежливо, – проворчал я. – Сидеть и смотреть, как человек спит.
– Прости, Лин, – ответил он спокойно. – Мы в Индии можем смотреть иногда, как каждый спит. Мы говорим, что лицо, когда оно спит, – друг всего мира.
– Твое лицо такое доброе, когда ты спишь, Лин, – добавил Джонни Сигар. – Я был очень удивлен.
– Не могу вам передать, как много это значит для меня, парни. Стало быть, можно рассчитывать на то, что я буду находить вас здесь каждое утро, просыпаясь?
– Ну, если ты этого действительно очень хочешь, Лин, – согласился Прабакер, вскакивая на ноги. – Сегодня мы просто пришли, чтобы сказать тебе, что твои пациенты готовы.
– Мои… пациенты?
– Да. Посмотри.
Они открыли дверь, и солнце вонзилось в мои воспаленные глаза. Заморгав, я вышел в сверкающее приморское утро и обнаружил возле хижины человек тридцать, если не больше. Они сидели друг за другом на корточках, образуя очередь, хвост которой пропадал где-то за углом.
– Доктор… доктор… – раздались голоса.
– Пошли, – дернул меня за рукав Прабакер.
– Куда?
– Сначала в туалет, – отвечал он жизнерадостно. – Ты ведь должен сделать опорожнение, не прав ли я? Я тебе покажу, как мы делаем опорожнение на длинной бетонной дамбе. Там все мальчики и молодые люди каждое утро делают опорожнение прямо в океан. Просто надо сесть на корточки, чтобы твои ягодицы были направлены в сторону океана. А потом ты помоешь свою добрую личность душем и будет замечательный завтрак. А после этого ты можешь легко привести в порядок своих пациентов. Никаких проблем.
Мы направились вдоль очереди. Тут были молодые и старые люди, мужчины и женщины. Их лица были покрыты ссадинами и синяками, у многих распухли. Почерневшие руки кровоточили и были в волдырях. Некоторые подвязали их, а для ног соорудили что-то вроде шин. Дойдя до поворота, я с ужасом увидел, что очередь там не заканчивается и тянется еще далеко-далеко.
– Но… как же я уйду? – пробормотал я. – Они же ждут…
– Подождать – это не проблема, – отвечал Прабакер беззаботным тоном. – Они и так ждут уже больше часа. Если бы тебя не было с нами, они все равно ждали бы – только неизвестно чего. А ждать неизвестно чего – это убивает сердце человека, не прав ли я? А сейчас они ждут известно чего. Тебя. А ты очень даже известно чего, Лин-Шантарам, если ты простишь, что я говорю так прямо в твое задымленное лицо и торчащие во все стороны волосы. Но сначала ты должен делать опорожнение, потом мыться и завтракать. И пойдем побыстрее, а то там ребята ждут на дамбе, чтобы посмотреть, как ты будешь делать опорожнение.
– Чего они ждут?!
– О да! Они захвачены тобой. Ты для них как киногерой из фильма. Они умирают от нетерпения увидеть, как ты будешь делать свое опорожнение. А потом, после всего этого, ты вернешься и расправишься с пациентами, как всамделишный герой, не прав ли я?
Так я нашел свою нишу в трущобах. «Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, – сказала Карла при одной из наших первых встреч, – значит ты не понял шутки». Еще в юности я прошел курс элементарной диагностики и оказания первой помощи при порезах, ожогах, растяжениях, переломах и прочих несчастных случаях. Впоследствии мне не раз приходилось спасать жизнь наркоманам при передозировке, и я получил прозвище Док. Сотни людей только так меня и называли, не зная моего имени. Именно поэтому мои друзья в Новой Зеландии и подарили мне на прощание эту походную аптечку. Я был уверен, что все эти факты – приобретение медицинских навыков, прозвище, аптечка, неофициальная лечебная практика в трущобах – выстроились в одну цепочку не случайно.
Это место было будто специально уготовлено для меня. Другой человек, владеющий начатками знаний по медицине, как и я или лучше меня, не совершал бы преступлений, не бежал бы из тюрьмы и не был бы вынужден жить в трущобах. Какой-нибудь преступник, пожелавший скрыться здесь от преследования, не имел бы медицинской подготовки. В то утро я не мог уразуметь смысла этой фатальной цепочки, понять шутку судьбы и посмеяться над ней. Но я чувствовал: то, что я попал в это место и занялся этим делом именно в этот момент, было предопределено судьбой. И это чувство обладало такой силой, что привязывало меня к этому месту, к этой работе, хотя внутренний голос и подсказывал мне, что надо бежать отсюда куда глаза глядят.
Мой первый рабочий день в трущобах начался. Люди приходили ко мне один за другим, сообщали свои имена, дарили улыбки, а я принимал одного за другим, стараясь по мере сил помочь. Занятый своим делом, я даже не заметил, как моя лачуга преобразилась: кто-то принес новую керосиновую лампу, кто-то – металлический ящик, чтобы прятать продукты от крыс; откуда-то появились кастрюли и ножи с вилками, табурет и кувшин для воды – все та же непременная матка.
Когда вечер протянулся алой дугой по небу, я вместе с соседями сел возле своей хижины, чтобы поужинать и побеседовать. Печаль владела всеми сердцами; воспоминания о погибших на время отступали, чтобы нахлынуть, как океанский прилив, с новой силой. Однако та же печаль заставляла уцелевших продолжать борьбу за жизнь. Опаленная земля была расчищена, многие хижины уже восстановлены. И с каждой восстающей из пепла лачугой росла надежда в сердцах людей.
Я посмотрел на Прабакера, который смеялся и шутил во время еды, и вспомнил наш поход в святилище Стоячих монахов. Особенно ярко запечатлелось у меня в памяти нападение сумасшедшего с саблей. В тот самый миг, когда я сделал шаг назад и выставил кулаки, чтобы отразить удар, Прабакер тоже шагнул в сторону и заслонил собой Карлу. Он не был влюблен в нее и не привык махать кулаками, но, в то время как я, подчиняясь первому побуждению, приготовился к драке, он инстинктивно сделал этот шаг.
Если бы Абдулла не остановил этого сумасшедшего и он добрался бы до нас, то именно мне пришлось бы схватиться с ним. Возможно, я сумел бы спасти нас – мне приходилось драться с противниками, которые были вооружены дубинками и ножами, и я справлялся с ними, – но это не умаляло мужества и геройства, проявленного Прабакером.
Прабакер нравился мне с каждым днем все больше. Я восхищался его неиссякаемым оптимизмом; его широкая улыбка не раз успокаивала меня и согревала; мне всегда и повсюду было хорошо в его обществе. Но в эту минуту, в мой второй вечер в трущобах, когда он перешучивался с Джитендрой, Джонни и другими друзьями, во мне пробудилась настоящая любовь к нему.
Еда была хорошо приготовлена, ее хватило на всех. Где-то было включено радио. Два голоса – прекрасное, почти невыносимо нежное сопрано и ликующий, горделивый тенор – исполняли дуэт из индийского кинофильма. Люди вокруг меня беседовали, поддерживая друг друга улыбками и словами. И я, слушая эту песню любви и этот разговор переживших несчастье и уверенных в будущем людей, почувствовал, что их мир обволакивает меня так же мягко и так же непреодолимо, как прибывающий прилив затопляет камень на берегу.
Часть 2
Глава 9
Я сбежал из тюрьмы в полном смысле слова среди бела дня – спустя час после полудня, перебравшись через стену в самом видном месте между двумя пулеметными вышками. Мы действовали в соответствии с тщательно разработанным планом почти до самого конца, но удался он потому, что был дерзок и требовал немалой доли безрассудства. Полный успех был нашей программой-минимум: приступив к выполнению плана, мы сожгли за собой мосты, и в случае неудачи надзиратели дисциплинарного подразделения вряд ли оставили бы нас в живых.
Нас было двое. Товарищем моим был двадцатипятилетний парень с широкой и необузданной натурой, осужденный на пожизненное за убийство. Мы пытались склонить к побегу еще несколько человек – восьмерых самых тертых заключенных из тех, кого мы знали; всем им впаяли по десять и больше лет за преступления с применением насилия. Но все они под тем или иным предлогом отказались участвовать в нашей авантюре. И я не виню их за это. Мы с приятелем были молоды, отсиживали свой первый срок, и, хотя он был у обоих большим, за нами не тянулось криминального следа. А задуманный нами побег был того рода, какой в случае успеха называют героическим, а в случае провала – безумным. Так что в итоге мы остались вдвоем.
Нам повезло, что в это время производился капитальный ремонт двухэтажного здания возле главных ворот, в котором базировалась внутренняя охрана и проводились допросы. Мы работали на уборке строительного мусора во дворе. Все смены охранников, дежуривших на этом участке, видели нас ежедневно и хорошо знали. Когда в день побега мы появились на своем рабочем месте, они, как обычно, понаблюдали за нами какое-то время, а затем оставили в покое. Ремонтируемое здание было пусто – рабочие ушли на обед. На несколько секунд на охранников нашло нечто вроде затмения – мы настолько примелькались им, что стали как бы невидимыми. Этим-то мы и воспользовались.
Проделав дыру в проволочном ограждении стройплощадки, мы взломали дверь пустого здания и поднялись на второй этаж. Внутренние перегородки были снесены, обнажилась структура опорных балок и вертикальных элементов. Голые деревянные ступени лестницы были засыпаны известковой пылью и осколками кирпичей и штукатурки. В потолке на верхнем этаже имелся люк. Встав на мощные плечи своего товарища, я выбил крышку люка и выбрался на чердак. Под одеждой у меня был обмотан вокруг пояса длинный кусок провода. Привязав один конец к балке под крышей, я спустил другой через люк. С помощью этого провода мой напарник поднялся на чердак вслед за мной.
Над нами нависала зигзагообразная крыша. Мы пробрались в самый дальний и узкий угол чердака, где здание смыкалось с наружной стеной тюрьмы. Я решил, что дыру в крыше надо проделать в желобе между двумя балками, надеясь, что так она не будет заметна с пулеметных вышек. На чердаке и повсюду-то было темно, а в этом углу – чернее, чем у негра за пазухой.
Используя зажигалку в качестве фонаря, мы начали долбить двойное деревянное покрытие, за которым уже шло верхнее, жестяное. Из инструментов у нас имелись только большая отвертка, стамеска и ножницы по металлу. Минут пятнадцать мы скребли дерево, резали и рубили и в результате проделали отверстие величиной с человеческий глаз. Посветив зажигалкой, мы разглядели поблескивавшую в глубине отверстия жестяную крышу. Слой дерева был слишком толстым и слишком твердым. С этими инструментами мы провозились бы несколько часов, расширяя дыру до таких размеров, чтобы можно было пролезть в нее.
У нас же в запасе не было нескольких часов – всего, как мы прикинули, минут тридцать или чуть больше до того, как охранники отправятся в свой обычный обход. За это время нам надо было пробиться сквозь деревянное покрытие, затем сквозь жестяное, потом вылезти на крышу и, перебросив через стену провод, спуститься по нему на волю. Наши внутренние часы отсчитывали минуты. Здесь, на чердаке, мы были как в западне. В любую минуту охранники могли заметить поврежденное ограждение, взломанную дверь и выбитый люк, а забравшись на чердак, обнаружили бы и нас.
– Надо вернуться обратно, – прошептал мой товарищ. – Нам не справиться с этой деревяшкой. Надо вернуться и сделать вид, что мы никуда не отлучались.
– Мы не можем вернуться, – ответил я ровным тоном, хотя у меня в голове тоже мелькнула эта мысль. – Они увидят все оставленные нами следы и поймут, что это наших рук дело. Кроме нас, на эту территорию никого не пускают. Если мы вернемся, то «щель» нам обеспечена как минимум на год.
«Щелью» мы называли карцер. В те годы этот карцер был худшим из всех тюремных карцеров в стране. Заключенных там жестоко избивали, как только у охранников появлялось такое желание. А уж после неудавшегося побега через крышу их собственной штаб-квартиры они избивали бы нас с особой жестокостью, и желание это появлялось бы у них даже чаще обычного.
– Так что же, на хрен, нам делать?! – завопил мой товарищ громким шепотом.
Пот ручьями стекал с его лица, а руки у него так взмокли от страха, что он уронил зажигалку.
– Есть два варианта, – сказал я.
– Какие?
– Во-первых, мы можем воспользоваться лестницей, что прикована к стене на первом этаже. Если мы разобьем цепь, приставим лестницу к стене и, забравшись по ней, привяжем сверху провод, то, перекинув провод через стену, можем спуститься по нему, как и собирались.
– Но… нас же заметят! – воскликнул он.
– Да.
– И пристрелят на месте.
– Не обязательно.
– Черт тебя побери! Это же самое открытое место! Объясни, как ты надеешься спастись.
– Я думаю, что одного из нас убьют, а другому, возможно, удастся бежать. Так что тут шансы фифти-фифти.
Помолчав, мы взвесили все «за» и «против».
– Это не вариант, а чистое самоубийство! – выпалил мой товарищ, передернувшись.
– Согласен.
– Ну а второй какой?
– На первом этаже валяется циркулярная пила.
– Да, я заметил.
– С ее помощью можно проделать дыру в деревяшке, а жесть вырезать ножницами.
– Но это ведь будет слышно! – хрипло прошептал он. – Во время работы я слышу даже, как они говорят по своему долбаному телефону. Когда мы включим здесь пилу, будет такой гром, будто вертолет сел на крышу!
– Да, но они могут подумать, что это строители работают.
– Они же знают, что рабочих здесь нет.
– У охранников как раз сейчас смена, заступят новые. Это, конечно, большой риск, но, по-моему, они, услышав шум, все же решат, что это рабочие. Здесь уже несколько недель визжат всякие дрели, пилы и отбойные молотки. С чего вдруг им думать, что это мы визжим? Им и в голову не придет, что заключенные могут настолько обнаглеть, чтобы проделывать электропилой дыру рядом с главными воротами. Во всяком случае, ничего лучше я не могу придумать.
– Не хочу быть слишком придирчивым, но в этом здании нет электричества, – проворчал он. – Его отключили на время ремонта. Единственная подключенная розетка находится на стене со стороны двора. Длины провода хватит, но розетка на наружной стене.
– Я знаю. Одному из нас придется спуститься, выйти через дверь, которую мы взломали, и воткнуть провод в розетку. Больше ничего не остается.
– И кто же из нас проделает этот фокус?
– Я проделаю.
Я хотел произнести это уверенным и решительным тоном, но порой нам в голову приходят столь невообразимые идеи, что наше тело просто не может в них поверить, так что у меня вместо этого получилось что-то вроде писка.
Я подошел к люку. Ноги от страха и напряжения одеревенели и плохо слушались меня. Я спустился по проводу, а затем по лестнице на первый этаж, волоча провод за собой. У входных дверей я увидел циркулярную пилу. Привязав к ее ручке конец провода, я взбежал с пилой на второй этаж к люку, и мой напарник втащил ее на чердак. После этого я вновь спустился с проводом. Прижавшись к стене у входных дверей, я замер, собираясь с духом. Наконец, дождавшись прилива адреналина, захлестнувшего мое сердце, я распахнул дверь и выскочил во двор.
Охранники, вооруженные пистолетами, были метрах в двадцати от меня. Если бы хоть один из них стоял лицом ко мне, все было бы кончено, но они вертели головой во все стороны, кроме моей. Они прохаживались возле ворот, смеясь какой-то шутке, и не заметили меня. Воткнув провод в розетку, я юркнул обратно в здание, по-собачьи взбежал на четвереньках по лестнице и поднялся по проводу на чердак. Мой друг в темном углу чиркнул зажигалкой. Он уже подсоединил провод к пиле и был готов пустить ее в ход. Взяв у него зажигалку, я стал светить ему. Пила завопила, как реактивный двигатель на стартовой полосе аэродрома. Приятель посмотрел на меня, ухмыляясь до ушей. В глазах его плясало пламя зажигалки. Он погрузил лезвие пилы в древесину. Сделав четыре пропила и чуть не оглушив меня при этом, он проделал отличную дыру, сквозь которую поблескивала жестяная крыша.
Наступила тишина. Мы ждали. В ушах у нас еще звучало угасающее эхо, в груди бешено колотилось сердце. На посту около ворот раздался телефонный звонок, и мы решили, что это конец. Один из охранников подошел к телефону и стал разговаривать с кем-то непринужденным тоном, посмеиваясь. Все было в порядке. Они, несомненно, слышали звук пилы, но сделали то заключение, на которое я и рассчитывал.
Воодушевленный этим успехом, я пробил отверткой дыру в жестяном покрытии. Солнце ворвалось на чердак вестником из свободного мира. Я расширил дыру и прорезал ножницами отверстие с трех сторон. Мы в четыре руки отогнули лист, я высунул голову наружу и убедился, что отверстие находится на дне конусообразного желоба. Лежа в этом желобе, мы не будем видеть охранников на вышке, значит и они не увидят нас.
Но оставалось еще одно дело. Провод был по-прежнему воткнут в розетку во дворе. Он был нужен нам, чтобы спуститься по стене на улицу. Один из нас должен был опять выйти во двор на виду у охранников, вытащить провод из розетки и вернуться на крышу. Поглядев на своего товарища, чье лицо блестело от пота в льющемся сверху потоке солнечного света, я понял, что идти придется мне.
Я опять выждал у выхода во двор, прижавшись к стене и собирая всю свою волю. Дышать было трудно, перед глазами все плыло, меня стало тошнить. Сердце билось в груди, как птица, попавшаяся в силок. В конце концов я понял, что не смогу выйти. И рассудок, и безотчетный страх – все кричало мне: «Не делай этого!» Я не мог.
Оставалось только перерезать провод. Я вытащил стамеску из кармана комбинезона. Она была очень остро наточена, и даже наши попытки продолбить с ее помощью дыру в деревянном перекрытии не затупили ее. Поставив режущую грань на провод в том месте, где он уходил под землю, я уже занес руку, чтобы ударить по рукоятке, но тут мне в голову пришла мысль, что при этом я прерву цепь и это, возможно, приведет в действие сигнал тревоги. Но других вариантов не было. Я просто физически не мог выйти во двор. Я с силой ударил по стамеске. Она прорезала провод и углубилась в деревянный пол. К своему облегчению, я не услышал ни сигнала тревоги, ни голосов приближающихся охранников. Опять обошлось.
Схватив свободный конец провода, я поспешил наверх, на чердак. Мы привязали провод к толстой балке возле проделанного отверстия. Затем мой товарищ полез на крышу. Протиснувшись наполовину, он застрял, не в силах двинуться ни вперед ни назад. Он стал дергаться и молотить ногами, но это не помогало. Он засел основательно.
На чердаке опять воцарилась темнота – его тело наглухо закупорило отверстие. Пошарив в пыли между стропилами, я нашел зажигалку. Я зажег ее и увидел, что` его задержало. Это был толстый кожаный кисет для табака, изготовленный им в одной из групп по обучению ремеслам. Их организовывали, чтобы занять заключенных в часы досуга. Я велел ему не дергаться и прорезал стамеской дыру в заднем кармане его комбинезона, где лежал кисет. Табак посыпался из кисета мне на руки, и мой освобожденный приятель вылез на крышу. Вслед за ним выбрался и я. Извиваясь как червяки, мы проползли по желобу до зубчатой тюремной стены и, встав на колени, посмотрели вниз. Часовые на вышке вполне могли нас увидеть, но они не глядели в нашу сторону. Человеческая психология превращала этот участок в слепое пятно. Охранники не обращали на него никакого внимания, потому что и представить себе не могли, что кто-нибудь из заключенных свихнется настолько, чтобы перелезать через переднюю стену при свете дня.
Перегнувшись на один миг через стену, мы увидели возле ворот вереницу машин. Это были поставщики различных продуктов, ожидавшие своей очереди. Каждую машину тщательно обыскивали и даже осматривали с помощью фонариков снизу, так что очередь продвигалась медленно. Мы опять укрылись в желобе, чтобы обсудить положение.
– Просто столпотворение, – вздохнул я.
– Все равно надо перелезать прямо сейчас, – заявил товарищ.
– Нет, надо подождать.
– К черту ожидания! Перебрасываем провод и спускаемся.
– Нет, – прошептал я, – там слишком много людей.
– Ну и что?
– Кому-нибудь из них обязательно захочется выступить в героической роли охранника общественного порядка.
– Хрен с ним. Пускай выступает. Мы заткнем ему чирикалку.
– Их там слишком много.
– Хрен с ними со всеми. Мы спрыгнем на них сверху, и они даже не поймут, что это на них навалилось. Схватимся с ними, и – чья возьмет.
– Нет, – сказал я твердо. – Надо дождаться, пока там никого не будет.
И мы стали ждать. Мы ждали целую вечность, двадцать пять минут. Я несколько раз, рискуя быть обнаруженным, подползал к стене, чтобы заглянуть через нее. Наконец, перегнувшись в очередной раз, я увидел, что улица пуста. Я дал сигнал своему товарищу. Он в ту же секунду перемахнул через стену. Я посмотрел вслед ему, ожидая увидеть, как он спускается по проводу, но он уже бегом скрывался в узком переулке напротив. А я был еще в тюрьме.
Я перебрался через вымазанный медным купоросом парапет и ухватился за провод. Упираясь ногами в стену, я посмотрел на пулеметную вышку слева от меня. Охранник разговаривал с кем-то по телефону, жестикулируя свободной рукой. На плече у него висел автомат. Я посмотрел вправо. Та же картина. Охранник с автоматом болтает по телефону. Он улыбался и не проявлял признаков беспокойства. Я был человеком-невидимкой. Я стоял прямо на стене самой надежной тюрьмы в государстве и был невидим.
Оттолкнувшись ногами, я начал спускаться. Но оттого, что руки мои были потными, да и от страха, провод выскользнул у меня из рук, и я стал падать. Стена была очень высокой, и, приземлившись, я, скорее всего, разбился бы насмерть. Я сделал отчаянную попытку ухватиться за провод, и это мне удалось. С адской скоростью я проскользил по проводу на руках, и их словно огнем обожгло – кожу с ладоней сорвало начисто. Затем мой спуск стал медленнее, хотя рукам от этого было не легче. Шлепнувшись на землю, я поднялся и пошатываясь пересек улицу. Я был свободен.
Я бросил последний взгляд на тюрьму. Провод по-прежнему свисал со стены. Охранники по-прежнему разговаривали по телефону. Мимо меня проехал автомобиль. Водитель барабанил пальцами по рулевому колесу в такт звучащей мелодии. Я отвернулся от тюрьмы и направился по переулку в новую жизнь, в которой не было места ничему из того, что я прежде любил.
Когда я с оружием в руках грабил людей, люди боялись меня. За это я был обречен жить в вечном страхе – сначала в ту пору, когда я занимался грабежом, затем в тюрьме и, наконец, после побега. Особенно остро это чувствовалось по ночам – мне казалось, что какой-то тромб страха закупорил мои кровеносные сосуды и дыхательные пути. Ужас, который испытывали передо мной другие, превратился в нескончаемые кошмары, преследовавшие меня в одинокие ночные часы.
Днем, когда мир крутился и хлопотал вокруг меня в те первые бомбейские месяцы, я погружался в водоворот дел, обязанностей и маленьких развлечений. А ночью, когда обитателям трущоб снились сны, я всей кожей ощущал страх. Мое сердце углублялось в темные пещеры воспоминаний. И часто, почти каждую ночь, я бродил по спящему городу. Я заставлял себя не оборачиваться, чтобы не увидеть свисающего со стены провода и пулеметных вышек, которых там не было.
По ночам на улицах было тихо. Начиная с полуночи полиция вводила в городе своего рода комендантский час. Ровно в половине двенадцатого на центральные улицы высыпал целый рой патрульных машин; полицейские заставляли хозяев всех ресторанов, баров и магазинов закрывать свои заведения и разгоняли даже лоточников, торговавших сигаретами и паном, не говоря уже о нищих, наркоманах и проститутках, которые не успели попрятаться по своим углам. Витрины магазинов загораживались стальными ставнями, лотки на рынках и базарах покрывались белым коленкором. В городе воцарялись тишина и пустота, какие трудно было представить себе в дневном шуме и гаме, коловращении людей и сталкивающихся интересов. Ночью Бомбей становился бесшумным, прекрасным и пугающим. Он превращался в дом, населенный привидениями.
После полуночи до двух или трех часов в городе проводились облавы. Группы полицейских в штатском патрулировали пустынные улицы, высматривая преступников, наркоманов, подозрительных прохожих, бездомных и безработных. Бездомным же был каждый второй в Бомбее, и почти все они жили, ели и спали на улице. Буквально повсюду ты наталкивался на спящих людей, укрывшихся от ночной сырости простынями и тонкими одеялами. Одинокие бродяги, семьи и целые группы беженцев, искавшие в мегаполисе спасения от засухи, наводнения или голода, ночевали, скучившись, на каменных пешеходных дорожках и в парадных.
Городской закон воспрещал спать на улице. Полицейские, конечно, следили за соблюдением этого закона, но относились к этой обязанности так же трезво, как и к ловле «ночных бабочек» на улице Десяти Тысяч Шлюх, и применяли дисциплинарные санкции очень выборочно. В частности, санкции не распространялись на святых людей – садху и приверженцев других религий. Стариков, больных и покалеченных иногда прогоняли с одного места на другое, но не арестовывали. С душевнобольными, разнообразными эксцентричными личностями и бродячими артистами – музыкантами, акробатами, фокусниками, актерами и укротителями змей – обходились подчас довольно грубо, но затем оставляли в покое. Семьям, особенно с маленькими детьми, обычно выносили предупреждение, чтобы они не задерживались в данном месте дольше чем на несколько дней. Если человек мог предъявить документ, удостоверяющий, что он где-то работает, или хотя бы сообщить адрес своего работодателя, его отпускали на все четыре стороны. При этом людям прилично одетым и способным доказать, что они мало-мальски образованны, удавалось обычно избежать ареста даже в том случае, если они нигде не работали. И разумеется, мог ни о чем не беспокоиться тот, кто был в состоянии дать полицейским взятку.
Таким образом, в группу повышенного риска попадали прежде всего одинокие молодые люди – бездомные, безработные, необразованные и бедные. Каждую ночь по всему городу арестовывали множество парней, которые не могли откупиться или убедить полицейских в своей благонадежности. Иногда их задерживали из-за того, что они подходили по своим внешним данным к описанию разыскиваемых преступников, иногда у них обнаруживали наркотики или краденое. Некоторые были хорошо известны полиции, и их прихватывали вместе с другими на всякий случай. Но многим не везло просто потому, что они были плохо одеты, держались замкнуто и не умели постоять за себя.
У города не было средств, чтобы обзавестись тысячами наручников для всех задержанных; да если бы даже средства и нашлись, полицейские вряд ли стали бы таскать по улицам массу тяжелых цепей. Вместо этого они брали с собой грубый шпагат из конопляного или кокосового волокна, которым привязывали арестованных друг к другу за правую руку. Эта тонкая бечевка служила надежным заменителем наручников, так как полуголодные люди были по большей части слишком слабы и духовно ломлены, чтобы отважиться на побег. Они молча и робко повиновались. Когда набиралась цепочка из пятнадцати-двадцати человек, их отводили под присмотром нескольких патрульных в полицейский участок, где запирали в камерах.
Полицейские в Бомбее оказались справедливее, чем я ожидал, и обладали несомненным мужеством. Они были вооружены лишь тонкими бамбуковыми палками, так называемыми лати. Никаких увесистых дубинок, газовых или иных пистолетов у них не было. Мобильными телефонами они тоже не были обеспечены и не могли вызвать подкрепление, столкнувшись с каким-либо затруднением. Транспортных средств для несения патрульной службы не предусматривалось, и полицейские совершали многокилометровые обходы пешком. И хотя им приходилось орудовать своими лати довольно часто, случаев жестокого избиения граждан было гораздо меньше, чем в том современном городе западного мира, где я вырос.
Тем не менее попасть в облаву значило провести много дней, недель или месяцев в одной из тюрем, где условия содержания были такими же плохими, как повсюду в Азии, и караваны связанных цепочкой людей, бредущие после полуночи по улицам, представляли даже более траурное зрелище, чем похоронные процессии.
По ночам я всегда гулял в одиночестве. Мои богатые друзья боялись бедняков. Бедные друзья боялись полицейских. Иностранцы боялись всех и прятались в своих отелях. Я владел улицами с их молчаливой прохладой безраздельно.
Во время одной из этих ночных прогулок, месяца через три после пожара, я забрел на набережную Марин-драйв. Широкий тротуар, тянувшийся вдоль парапета, был пуст и чист. Шестиполосная автомагистраль отделяла его от раскинувшейся от горизонта к горизонту вогнутой дуги, которая предъявляла темным колышущимся морским волнам парадный фасад города: шикарные дома с дорогими квартирами, консульские особняки, первоклассные рестораны и отели.
Движения на набережной практически не было, лишь каждые пятнадцать-двадцать минут медленно проезжала какая-нибудь машина. Почти все окна за проспектом были темны. Резкие порывы холодного ветра приносили с моря чистый соленый воздух. Вокруг стояла тишина. Море шумело сильнее, чем город.
Некоторых моих друзей из трущоб беспокоило, что я гуляю по ночам один. «Не ходи ночью, – говорили они, – ночью в Бомбее опасно». Но я не боялся города. На его улицах я чувствовал себя в безопасности. Какой бы странной и корявой ни была моя жизнь, город вбирал ее в себя вместе с миллионами других, как будто… как будто она принадлежала ему точно так же, как и все остальные.
А дело, которым я занимался, еще больше связывало меня с окружающим миром. Роль врачевателя бедняков целиком поглотила меня. Достав книги по диагностике болезней, я читал их при свете лампы в своей хижине. Я накопил скромный запас лекарств, мазей и перевязочного материала, покупая все это в аптеках на деньги, заработанные на нелегальных сделках с туристами. И даже сколотив приличную сумму, позволявшую мне расстаться с трущобной неблагоустроенностью, я продолжал жить там. Я остался в этой тесной лачуге, хотя мог переехать в квартиру со всеми удобствами. Я позволил втянуть себя в бурлящий водоворот борьбы за существование, которую вели двадцать пять тысяч человек, живших рядом со мной. Я связал свою жизнь с Прабакером, Джонни Сигаром и Казимом Али Хусейном. И хотя я старался не думать о Карле, моя любовь настойчиво впивалась когтями в мое сердце. Я целовал ветер, дувший в ее сторону. Я произносил ее имя, когда был один.
Сидя на парапете, я чувствовал, как прохладный морской бриз омывает мое лицо и грудь, подобно воде, льющейся из глиняного кувшина. Тишину нарушали лишь мое дыхание, сливавшееся с ветром, и плеск волн в трех метрах подо мной. Ударяясь о стенку набережной, они пенились и взмывали вверх, пытаясь дотянуться до меня. «Отдайся им, отдайся. Покончи со всем этим. Всего один прыжок – и умрешь. Это так просто», – твердил голос внутри меня, и, хотя он был не единственным и не самым громким, исходил он из очень глубокого источника – стыда, который душил во мне чувство самоуважения. Люди, носящие в душе стыд, знают этот голос: «Ты предал всех. Ты не имеешь права жить. Без тебя мир станет лучше…» И несмотря на все мои старания слиться с окружающим миром, излечить себя работой в своей клинике, спасти себя наивной верой в свою любовь к Карле, я оставался один на один со своим стыдом и чувствовал себя конченым человеком.
Море внизу плескалось и билось о берег. Всего один прыжок. Я представил себе, как я падаю, как мое тело ударяется о камни и ускользает в холодную глубину. Так просто.
Чья-то рука легла мне на плечо. Она удерживала меня мягко, но достаточно сильно, пригвоздив к месту. Я обернулся, вздрогнув от неожиданности. Позади меня стоял высокий молодой человек. Он не убирал руку, будто прочитав мои мысли.
– Вы ведь мистер Лин, да? Не знаю, помните ли вы меня. Меня зовут Абдулла. Мы встречались в притоне у Стоячих монахов.
– Ну конечно я помню вас, – пробормотал я. – Вы спасли нам жизнь. Вы исчезли тогда так внезапно, что я не успел толком поблагодарить вас.
Он легко улыбнулся и, отпустив мое плечо, прочесал пятерней свои густые черные волосы.
– К чему эти благодарности? Вы ведь сделали бы то же самое для меня в своей стране, не так ли? Пойдемте, там один человек хочет поговорить с вами.
Он указал на машину, стоявшую у тротуара метрах в десяти от нас. Я не слышал, как она подъехала, хотя мотор продолжал работать. Это был «амбассадор», довольно скромная индийская модификация шикарной марки. В машине были двое – водитель и еще кто-то на заднем сиденье.
Абдулла открыл заднюю дверцу. Я заглянул внутрь и увидел при свете уличных фонарей человека лет шестидесяти пяти – семидесяти. У него было сильное, умное худощавое лицо с длинным тонким носом и высокими скулами. Притягивали взгляд янтарные глаза, в которых светилась дружелюбная усмешка и еще что-то неуловимое – может быть, безжалостность, а может быть, любовь. Седые, переходящие в белизну волосы и борода были коротко подстрижены.
– Мистер Лин? – спросил он. Голос был глубокий и звучный, в нем чувствовалась непоколебимая авторитетность. – Очень рад познакомиться с вами. Очень рад. Я слышал о вас немало хорошего. Всегда приятно услышать что-то хорошее о людях, особенно если это говорится об иностранцах, гостях Бомбея. Возможно, вы тоже слышали обо мне. Меня зовут Абдель Кадер-хан.
Еще бы не слышать! В Бомбее не было ни одного человека, не знавшего этого имени. Оно появлялось в газетах еженедельно. Об Абделе Кадер-хане говорили на базарах, в ночных клубах и трущобах. Богатые восхищались им и побаивались. Бедные уважали его и рассказывали о нем легенды. Он проводил знаменитые беседы по вопросам богословия и этики во дворе мечети Набила в Донгри, куда стекались со всего города ученые мужи, представлявшие самые разные науки и конфессии. Он дружил со многими художниками и артистами, бизнесменами и политиками. И он был одним из заправил бомбейской мафии, одним из тех, кто основал систему местных советов, разделившую весь Бомбей на районы, в каждом из которых распоряжался свой совет криминальных баронов. Мне говорили, что эта система оправдывает себя и пользуется популярностью, так как она восстановила порядок и относительное спокойствие в бомбейском преступном мире, издавна раздираемом кровавыми междоусобицами. Это был могущественный, опасный и выдающийся человек.
– Да, сэр, – ответил я и тут же испытал шок оттого, что непроизвольно употребил это слово. Я ненавидел его. В тюремном карцере нас избивали, если мы забывали добавить «сэр», обращаясь к охранникам. – Разумеется, я слышал ваше имя. Люди называют вас Кадербхай.
Добавление «бхай» в конце имени означает «старший брат». Это уважительное и ласковое обращение к человеку. Когда я произнес «Кадербхай», старик улыбнулся и медленно кивнул.
Водитель пристроил свое зеркальце так, чтобы держать меня в поле зрения, и вперил в меня лишенный какого-либо выражения взгляд. С зеркальца свисала ветка цветущего жасмина, и его аромат, после свежего морского воздуха, слегка кружил голову и пьянил. Я будто видел эту сцену со стороны: свою склонившуюся возле открытой дверцы фигуру, наморщенный лоб над поднятыми на Кадербхая глазами, желобок для стока воды на крыше автомобиля, прилепленную на приборной доске полоску бумаги с надписью: БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ, Я ВОЖУ ЭТУ МАШИНУ. Кроме нас, на улице никого не было. Слышны были только урчание двигателя и приглушенный шорох волн.
– Я знаю, что вы работаете доктором в колабских трущобах, – мне сообщили об этом, как только вы поселились там. Иностранцы очень редко изъявляют желание жить в трущобах. К вашему сведению, они принадлежат мне – я владею землей, на которой стоят эти хижины. И мне было приятно узнать, что вы там трудитесь.
Я молчал, пораженный. Оказывается, трущобы, в которых я жил, – эта половина квадратного километра, называемая джхопадпатти, где ютились двадцать пять тысяч человек, – были его собственностью? Я прожил там уже несколько месяцев и не раз слышал имя Кадербхая, но никто не называл его хозяином. «Как может быть, – думал я, – чтобы один человек владел этим поселком и жизнью всех его обитателей?»
– Но я… я не доктор, Кадербхай, – выдавил я.
– Может быть, именно поэтому вы лечите жителей поселка с таким успехом, мистер Лин. Доктора с дипломами не горят желанием работать в трущобах. Можно заставить человека не поступать плохо, но нельзя заставить его поступать хорошо, вы согласны? Мы проехали мимо вас, когда вы сидели на парапете, и мой молодой друг Абдулла узнал вас. Я велел водителю развернуть автомобиль и остановиться возле вас. Залезайте, садитесь рядом со мной. Мы съездим кое-куда.
Я колебался.
– Пожалуйста, не беспокойтесь. Я…
– Никакого беспокойства, мистер Лин. Садитесь, садитесь. Наш водитель тоже мой близкий друг, его зовут Назир.
Я забрался на заднее сиденье. Абдулла закрыл за мной дверцу и сел рядом с водителем, который тут же снова поправил свое зеркальце, чтобы держать меня под прицелом. Автомобиль продолжал стоять на месте.
– Чиллум боно! – приказал Кадербхай Абдулле. – Приготовь чиллум!
Абдулла достал из кармана куртки трубку с раструбом, положил на сиденье рядом с собой и стал смешивать гашиш и табак. Из смеси он скатал шарик, называвшийся голи, насадил его на конец спички и поджег другой спичкой. Запах чараса разбавил заполнявший салон аромат жасмина. Двигатель продолжал тихо урчать. Все остальные молчали.
Спустя три минуты чиллум был готов, и Абдулла протянул его Кадербхаю, чтобы тот сделал первую затяжку, думм. Выдохнув дым, Кадербхай передал трубку мне, вслед за мной затянулись Абдулла и Назир, и чиллум пошел по второму кругу. После этого Абдулла быстро вычистил его и опять спрятал в карман.
– Чало! – скомандовал Кадер. – Поехали!
Автомобиль медленно двинулся вперед, отражая огни уличных фонарей наклонным ветровым стеклом. Водитель вставил кассету в плеер, вмонтированный в приборную доску. Из динамиков, включенных на полную громкость у нас над головой, полилась надрывная мелодия романтической газели. Гашиш так сильно подействовал на меня, что весь мозг мой, казалось, вибрировал в такт музыке, но лица моих попутчиков были абсолютно бесстрастны.
Ситуация до жути напоминала сотни аналогичных поездок под кайфом в Австралии и Новой Зеландии, где мы с друзьями, накурившись гашиша, точно так же включали музыку и катались по улицам города. Но у нас, как правило, только молодежь развлекалась подобным образом. А здесь мы сидели в компании могущественного мафиози, который был намного старше Абдуллы, Назира и меня. И хотя музыка была привычной, слов песни, исполняемой на неизвестном мне языке, я не понимал. Ощущение было знакомым и вместе с тем тревожащим, как будто я уже в солидном возрасте вернулся на школьный двор, где резвился ребенком, и, несмотря на убаюкивающее действие наркотика, полностью расслабиться я не мог.
Я не имел представления, куда мы направляемся и когда вернемся. Ехали мы в сторону Тардео, то есть совсем не в ту, где были трущобы. Я уже не впервые становился жертвой подобного дружеского похищения – специфического индийского обычая. Мои друзья по трущобам время от времени несколько невразумительно и загадочно приглашали меня сопровождать их неизвестно и куда неизвестно, с какой целью. «Поехали, – говорили они, не считая необходимым объяснять куда и зачем. – Поехали скорее!» Несколько раз я пытался отказаться, но вскоре убедился, что эти незапланированные таинственные поездки всегда оправдывают себя, оказываются чаще всего интересными и приятными, а подчас и полезными. Так что постепенно я привык относиться к этим приглашениям спокойно и принимать их, доверившись своему инстинкту, – точно так же как сегодня. И мне ни разу не пришлось пожалеть об этом.
Когда мы поднялись на пологий холм, за которым находилась мечеть Хаджи Али, Абдулла выключил кассетник и спросил Кадербхая, желает ли он, как обычно, остановиться возле ресторана. Кадер задумчиво посмотрел на меня и кивнул водителю. Он дважды постучал костяшками пальцев по моей руке и приложил большой палец к губам. Жест его означал: «Храни молчание. Смотри, но ничего не говори».
Мы остановились на автомобильной стоянке возле ресторана «Хаджи Али», чуть в стороне от двух десятков припаркованных там машин. Хотя в целом Бомбей после полуночи погружался в сон или, по крайней мере, делал вид, что спит, – кое-где оставались островки, на которых жизнь, с ее звуками и красками, не затухала. Фокус был в том, чтобы знать, где находятся такие островки. Одним из них и был ресторан около святилища Хаджи Али. Здесь каждую ночь собирались сотни людей, чтобы перекусить, побеседовать или просто купить выпивку, сигареты и сладости. До самого утра они подъезжали в такси, в своих машинах или на мотоциклах. Сам ресторан был невелик и всегда переполнен. Большинство посетителей предпочитали есть в своих автомобилях или на свежем воздухе. Из автомобилей разносилась по округе громкая музыка. Люди перекрикивались на хинди, урду, маратхи и английском. Официанты с профессиональной ловкостью скользили между автомобилями с подносами, пакетами и бутылками.
Ресторан явно нарушал все правила комендантского часа, и, по идее, полицейские из участка, расположенного всего в двадцати метрах отсюда, должны были бы прикрыть его. Но свойственный индийцам прагматизм подсказывал им, что у цивилизованных людей в большом современном городе даже по ночам должно быть место, где они могли бы встретиться. Владельцам подобных заведений разрешалось – разумеется, за бакшиш – работать практически всю ночь. Но в отличие от тех, кто обладал соответствующей лицензией, такие бары и рестораны действовали нелегально и были вынуждены иногда создавать видимость законопослушания. Когда какая-нибудь большая шишка – инспектор, сотрудник муниципалитета или, не дай бог, министр – собиралась проехать мимо ресторана «Хаджи Али», полицейских предупреждали об этом по телефону. Тут же все дружно разбегались, машины разъезжались по окрестным переулкам, ресторан тушил огни и временно закрывался. Это нисколько не обескураживало посетителей и даже придавало заведению особый шик, отличавший его от всех остальных, где можно было прозаически поесть без всяких помех. Люди прекрасно понимали, что через каких-нибудь полчаса ресторан откроется снова. Они знали о бакшише и о предупредительных звонках по телефону. Это всех устраивало, все были довольны. «Самое плохое в коррумпированности здешней системы управления, – сказал однажды Дидье, – то, что она действует так безотказно».
Старший официант, молодой махараштриец, поспешил к нашему автомобилю и почтительно кивнул, когда наш водитель сделал заказ. Абдулла вышел из автомобиля и направился к установленному прямо на улице длинному прилавку, около которого толпились люди. Я наблюдал за ним. Он двигался с легкой грацией прирожденного спортсмена. Ростом он был выше окружающих и держался с подчеркнутой, хотя и настороженной, уверенностью. Его черные волосы почти достигали плеч, одежда была неброской – белая шелковая рубашка, черные брюки и мягкие черные туфли, – но она сидела на его мускулистой фигуре идеально, и он носил ее с элегантностью кадрового военного. Ему было, по-видимому, лет двадцать восемь. Когда он повернулся в нашу сторону, я обратил внимание на его красивое лицо и спокойный, твердый взгляд. Я уже имел возможность убедиться, какой силой и ловкостью он обладает, когда он разоружил сумасшедшего с саблей в притоне.
Продавцы за прилавком и многие посетители, узнав Абдуллу, переговаривались с ним и шутили, пока он покупал сигареты и пан. Жесты их стали более выразительными, а голоса более громкими, чем до того, как он подошел. Вокруг него образовалась небольшая толпа, каждый старался прикоснуться к нему. Казалось, все страстно желали добиться его благосклонности или хотя бы обратить на себя его внимание. Но чувствовалась в них и какая-то неуверенность, как будто, несмотря на все шутки и улыбки, они относились к нему с некоторым недоверием и неодобрением. И без сомнения, они побаивались его.
Вернулся официант с подносом и отдал питье и закуску нашему водителю. Он задержался у открытого окна рядом с Кадербхаем, умоляюще глядя на него. Было ясно, что он хочет о чем-то поговорить.
– Рамеш, как поживает твой отец? – спросил Кадер. – Он здоров?
– Да, бхай, он здоров, – ответил молодой человек на хинди. – Но у меня… есть одна проблема. – Он нервно подергал себя за кончик уса.
Нахмурившись, Кадербхай изучал его взволнованное лицо.
– Что за проблема, Рамеш?
– Проблема… с моим домовладельцем, бхай. Мне… нам… моей семье грозит выселение. Мы уже и так стали платить ему вдвое больше, но ему все мало… и он обещает выселить нас.
Кадер задумчиво кивнул. Ободренный его молчанием, Рамеш принялся быстро говорить на хинди:
– И он хочет выселить не только нашу семью, бхай, а всех, кто живет в этом доме. Мы пытались уговорить его, делали ему очень выгодные предложения, но он не желает ничего слушать. Под его командой есть несколько гундас, и эти гангстеры угрожали нам и даже избили несколько человек. Они избили моего отца. Мне стыдно, бхай, что я не убил на месте этого домовладельца, но я знаю, что моей семье и нашим соседям будет после этого только хуже. Я предлагал моему достопочтенному отцу поговорить с вами, чтобы вы защитили нас, но он слишком гордый. Вы его знаете. И он любит вас, бхай. Он не хочет беспокоить вас своими просьбами. Он будет очень сердит, если узнает, что я обратился к вам. Но когда я увидел вас сегодня, мой господин Кадербхай, я решил… я решил, что сам Бхагван прислал вас сюда. Я… я нижайше прошу вашего прощения…
Он замолчал и проглотил комок в горле. Пальцы его, сжимавшие пустой поднос, побелели.
– Мы разберемся с твоей проблемой, Раму, – медленно произнес Кадербхай. Уменьшительно-ласкательное обращение «Раму» вызвало на лице официанта широкую детскую улыбку. – Зайди ко мне завтра ровно в два часа. Мы обсудим это дело подробнее. Мы поможем тебе, иншалла[58 — Если будет угодно Аллаху (араб.).]. И не стоит передавать наш разговор твоему отцу, Раму, пока мы не решим этого вопроса.
Казалось, Рамеш сейчас схватит руку Кадера и примется ее целовать, но он только поклонился и стал пятиться, бормоча слова благодарности. Мы принялись за еду. Абдулла и водитель заказали фруктовый салат и кокосовый йогурт и со смаком поедали их. Мы с Кадербхаем взяли только манговый коктейль. Пока мы цедили этот охлажденный напиток, к окошку автомобиля подошел еще один проситель. Это был полицейский, возглавлявший местный участок.
– Большая честь видеть вас здесь, Кадерджи[59 — Окончание – джи, как и – бхай, добавляется при вежливом обращении.], – произнес он, скривив лицо с выражением, которое можно было понять и как льстивую улыбку, и как гримасу боли при внезапном спазме в желудке. Он говорил на хинди с сильным акцентом непонятного происхождения. Спросив Кадербхая о здоровье его семьи, он перешел к делу.
Абдулла поставил свою пустую тарелку на сиденье рядом с собой, а из-под сиденья вытащил какой-то сверток в газетной бумаге и передал его Кадеру. Тот отогнул угол газетного листа, представив на обозрение толстую пачку банкнот достоинством сто рупий, и протянул ее через окно полицейскому. Это было сделано так открыто и даже демонстративно, что стало ясно: он хочет, чтобы все люди в радиусе ста метров видели, что взятка дана и принята.
Полицейский сунул деньги себе под рубашку и, отвернувшись, дважды сплюнул на счастье. Затем он вновь наклонился к окну и стал бормотать на хинди очень быстро и настоятельно. Я уловил слова «тело», «сделка» и что-то вроде «базара воров», но в целом смысл был мне непонятен. Кадер поднял руку, и полицейский замолчал. Абдулла взглянул на Кадера, затем на меня, и на лице его промелькнула мальчишеская ухмылка.
– Пойдемте, мистер Лин, осмотрим мечеть, – сказал он спокойно.
Когда мы выбрались из машины, полицейский громко проворчал:
– Этот гора знает хинди? Бхагван, избави нас от иностранцев!
Мы c Абдуллой нашли место на набережной, где было меньше народу. Мечеть Хаджи Али возвышалась на маленьком островке, куда можно было перейти по каменному перешейку длиной сто тридцать три шага. С рассвета и до заката перешеек был запружен пилигримами и туристами – если только прилив не затоплял его. Ночью мечеть казалась с набережной кораблем, бросившим здесь якорь. Медные фонари, подвешенные на кронштейнах, окрашивали мраморные стены в желтый и зеленый цвет. Закругленные контуры мечети с куполами и арками-слезинками белели при луне, словно паруса этого таинственного судна, а минареты возвышались, как мачты.
Полная блиноподобная луна, которую в трущобах называют скорбящей луной, заливала мечеть своим гипнотическим светом. С моря дул легкий бриз, но воздух был теплым и влажным. Тысячи летучих мышей роились над нашими головами среди натянутых электрических проводов, напоминая музыкальные ноты на нотной бумаге. Маленькая девочка, которой давно полагалось бы спать, все еще торговала гирляндами жасмина. Подойдя к нам, она вручила одну гирлянду Абдулле. Он полез в карман за деньгами, но она, засмеявшись, отвергла их и ушла, распевая песню из популярного индийского фильма.
– Нет более прекрасного свидетельства Божьего промысла, чем щедрость бедняков, – тихо произнес Абдулла. Похоже, он всегда говорил таким тихим и мягким голосом.
– Вы говорите по-английски очень хорошо, – заметил я, искренне восхищенный тем, как красиво он сумел выразить эту нестандартную мысль.
– Да нет, не очень. Просто я знал одну женщину, которая научила меня некоторым словам, – ответил он. Я ожидал продолжения, но он молчал, глядя на море, а затем заговорил о другом: – Скажите, мистер Лин, если бы меня не было тогда в притоне Стоячих монахов, что бы вы сделали, когда этот человек бросился на вас с саблей?
– Я схватился бы с ним.
– Я думаю… – он повернулся ко мне, глядя прямо в глаза, и я вдруг почувствовал, что волосы у меня на голове готовы зашевелиться от необъяснимого страха, – я думаю, что вы погибли бы. Он убил бы вас, и вы сейчас были бы мертвы.
– Нет. Он, конечно, был вооружен, но немолод и ничего не соображал. Я справился бы с ним.
– Возможно, – согласился Абдулла без улыбки. – Возможно, вы справились бы с ним, но если бы вы сумели отвести удар и остаться в живых, то сабля могла бы ранить или убить одного из ваших спутников – девушку или вашего друга-индийца, мне так кажется. Один из вас троих погиб бы.
Я молчал. Безотчетный страх, который я ощутил минуту назад, перерос в явственное чувство тревоги. Мое сердце с шумом гоняло кровь по сосудам. Абдулла говорил о том, как он спас мне жизнь, но в его тоне звучала угроза. Во мне начал закипать гнев. Я напрягся, готовый к сопротивлению, и пристально посмотрел ему в глаза.
Он улыбнулся и положил руку мне на плечо – точно так же, как он сделал это час назад на другой набережной. Охватившее меня ощущение опасности было очень сильным, но исчезло так же быстро, как и возникло. Я тут же забыл о нем – на несколько месяцев.
Обернувшись, я увидел, что полицейский, поклонившись Кадеру, отходит от машины.
– Кадербхай сунул взятку этому копу очень демонстративно, – заметил я.
Абдулла засмеялся, и я вспомнил, что в монастыре он смеялся так же открыто, бесхитростно, абсолютно естественно. Этот смех сразу пробудил во мне симпатию к нему.
– Есть старая персидская поговорка: «Лев должен время от времени рычать, чтобы напоминать коню о его страхе». Этот полицейский создает проблемы на своем участке. Люди не уважают его, и это его расстраивает. Из-за этого он создает еще больше проблем, а люди уважают его еще меньше. Теперь же, увидев, что ему дали такой бакшиш – намного больший, чем получают обычно копы вроде него, – они начнут немножко уважать его. То, что великий Кадербхай заплатил ему так хорошо, произвело на них впечатление. А если люди будут уважать этого полицейского, меньше проблем будет для всех нас. Но все как в поговорке: коп – всего лишь конь, а Кадербхай – лев, и лев прорычал.
– Вы телохранитель Кадербхая?
– Нет-нет! – рассмеялся он. – Господин Абдель Кадер не нуждается в охране. Но я… – Абдулла замолчал, и мы оба посмотрели на седовласого человека в скромном автомобиле. – Но я готов отдать за него жизнь, если вы это имеете в виду. Ради него я готов даже на большее.
– Вряд ли человек может сделать для кого-то больше, чем отдать за него жизнь, – заметил я, усмехнувшись странности этой фразы и серьезности, с какой Абдулла произнес ее.
– Может, может, – ответил он, обняв меня рукой за плечи и ведя обратно к машине. – Человек может сделать для другого гораздо больше.
– Я вижу, вы подружились с нашим Абдуллой, мистер Лин? – спросил Кадербхай, когда мы сели в машину. – Это хорошо. Вы должны стать близкими друзьями. Вы похожи на двух братьев.
Посмотрев друг на друга, мы с Абдуллой недоверчиво рассмеялись. Я был блондином, он – жгучим брюнетом; у меня были серые глаза, у него – карие; он был персом, я – австралийцем. На первый взгляд трудно было найти двух менее похожих людей. Но Кадербхай воспринял наш смех с таким искренним удивлением, что мы поспешили подавить его. Автомобиль тронулся с места, направившись по Бандра-роуд, а я думал о том, что сказал Кадер. Какими бы значительными ни казались нам с Абдуллой внешние различия между нами, возможно, старик был проницательнее нас и его слова содержали долю истины.
Так мы ехали около часа. Наконец на окраинах Бандры автомобиль замедлил ход на одной из улиц возле магазинов и складов и свернул в узкий проулок, темный и пустынный. Когда дверца автомобиля открылась, я услышал музыку и пение.
– Пойдемте, мистер Лин, – сказал Кадербхай, не удосужившись объяснить, куда и зачем он меня приглашает.
Водитель Назир остался возле автомобиля и, прислонившись к капоту, позволил себе наконец расслабиться и развернул обертку пана, который Абдулла купил ему у ресторана «Хаджи Али». Я подумал, что за все это время он не произнес ни слова, и подивился тому, как долго многие индийцы умеют хранить молчание в этом шумном перенаселенном городе.
Мы вошли через широкую каменную арку в длинный коридор и, поднявшись на два лестничных пролета, оказались в просторном помещении, заполненном людьми, дымом и громкой музыкой. Стены этого прямоугольного зала были обтянуты шелком и увешаны коврами. В дальнем его конце имелось небольшое возвышение, где на шелковых подушках сидели четыре музыканта. Вдоль стен были расставлены низкие столики, окруженные удобными подушками. С деревянного потолка свисали бледно-зеленые фонари в форме колокола, отбрасывавшие на пол дрожащие круги золотистого света. От столика к столику сновали официанты, разнося черный чай в высоких стаканах. За некоторыми столиками люди курили кальяны, окрашивавшие воздух жемчужным цветом и наполнявшие его ароматом чараса.
При нашем появлении многие поднялись на ноги, приветствуя Кадербхая. Абдуллу здесь тоже хорошо знали. Несколько человек кивнули ему, помахали рукой или подошли поговорить. В отличие от посетителей «Хаджи Али», здесь к нему относились с теплотой, обнимали и надолго задерживали его руку в своей. Один из присутствующих был мне знаком – Шафик Гусса, или Шафик Сердитый, в чьем подчинении находились все проститутки в районе матросских казарм недалеко от наших трущоб. Еще троих я узнал по газетным фотографиям: известного поэта, крупного суфийского деятеля и болливудскую звезду второй величины.
Среди людей, окруживших Кадербхая, был администратор этого частного клуба, низенький человечек в застегнутом на все пуговицы и тесно обтягивавшем его животик длинном кашмирском жилете. Его лысую голову покрывала белая кружевная шапочка хаджи – человека, совершившего паломничество в Мекку. На лбу красовалось темное пятно, какое появляется у некоторых мусульман в результате постоянного контакта с каменным полом во время молитв. Администратор отдал распоряжения, и официанты тотчас принесли еще один столик с подушками и установили его в углу, откуда было хорошо видно сцену.
Мы сели за столик, скрестив ноги, – Абдулла справа от Кадербхая, я слева. Мальчик в шапочке хаджи, афганских шароварах и жилете принес нам миску с рисом, густо приправленным порошковым чили, и блюдо со смесью орехов и сушеных фруктов. Разносчик чая разлил горячий темный напиток из чайника с узким носиком, держа его на высоте около метра и не пролив ни капли. Поставив чай перед нами, он предложил нам кусковой сахар. Я хотел отказаться от сахара, но тут вмешался Абдулла.
– Мистер Лин, – улыбнулся он, – это ведь настоящий персидский чай, и его надо пить так, как это делают в Иране.
Он взял в рот кусочек сахара, зажав его между передними зубами, и стал цедить чай сквозь этот кусочек. Я вслед за ним сделал то же самое, и, хотя из-за растаявшего сахара чай стал более сладким, чем я любил, я был доволен, что познакомился еще с одним народным обычаем.
Кадербхай тоже пил чай сквозь кусочек сахара, отдав дань этой традиции с достоинством и торжественностью, с какими он делал и говорил практически все. Я никогда не встречал человека более величественного, чем он. Глядя, как он слушает Абдуллу, склонив голову, я подумал, что он занял бы главенствующее положение в любом обществе и в любую эпоху и заставил бы окружающих выполнять его распоряжения.
На сцену вышли три певца и расселись перед музыкантами. В зале воцарилась тишина, певцы затянули песню на три голоса, которые оказались настолько мощными, что пробирали слушателя до дрожи; их пение было выразительным, сладостным и страстным. Они не просто пели, но плакали и рыдали; из их закрытых глаз капали на грудь слезы. Слушая их, я испытывал восторг, но одновременно и некоторую неловкость, как будто они раскрывали передо мной свои интимнейшие чувства, свою любовь и печаль.
Исполнив три песни, певцы скрылись за занавесом, выйдя в соседнее помещение. Во время их выступления публика сидела молча, даже не шевелясь, но, стоило им уйти, все разом заговорили, словно желая сбросить колдовские чары. Абдулла поднялся и подошел к группе афганцев за другим столиком.
– Вам понравилось их пение, мистер Лин? – спросил Кадербхай.
– Да, очень. Это просто удивительно. Я никогда не слышал ничего подобного. В их пении столько печали и вместе с тем столько силы. На каком языке они пели? На урду?
– Да. Вы знаете урду?
– Нет, я немного знаю только маратхи и хинди. Я догадался, что это урду, потому что некоторые из моих соседей в трущобах говорят на нем.
– Газели всегда поют на урду, а эти певцы – лучшие их исполнители во всем Бомбее.
– Это любовные песни?
Улыбнувшись, он наклонился ко мне и коснулся моей руки. В Бомбее люди часто прикасались к собеседнику, слегка пожимая или стискивая его руку для большей выразительности. Обитатели трущоб разговаривали так всегда, и мне это нравилось.
– Да, их можно назвать любовными песнями, но это самые лучшие и самые истинные из любовных песен, потому что в них выражается любовь к Богу.
Я молча кивнул, и Кадербхай продолжил:
– Вы христианин?
– Нет, я не верю в Бога.
– В Бога нельзя верить или не верить, – объявил он. – Его можно только познать.
– Ну, тут уж я могу точно сказать, что не познал его, – рассмеялся я. – И, говоря откровенно, мне кажется, что в него невозможно поверить – по крайней мере, в бо`льшую часть того, что о Нем рассказывают.
– Да, разумеется, Бог невозможен. И это первое доказательство того, что он существует.
Кадер внимательно смотрел на меня, по-прежнему держа свою руку на моей. «Так, надо быть начеку, – подумал я. – Меня втягивают в один из философских диспутов, которыми он прославился. Это испытание, и не из легких, тут масса подводных камней».
– Вы хотите сказать, что нечто должно существовать потому, что оно невозможно? – спросил я, пустившись на своей утлой лодчонке в плавание по неисследованным водам вслед за его мыслью.
– Совершенно верно.
– Но тогда получается, что не существует того, что возможно?
– Именно! – расплылся он в улыбке. – Я восхищен тем, что вы это понимаете.
– Знаете, – улыбнулся я в ответ, – я произнес эту фразу, но это не значит, что я ее понимаю.
– Я объясню. Ничто не существует таким, каким мы это видим. Ничто из того, что мы видим, не является таким, каким представляется нам. Наши глаза – обманщики. Все, что кажется нам реальным, просто часть иллюзии. Нам кажется, что мы видим существующие вещи, но их нет. Ни вас, ни меня, ни этой комнаты. Ничего.
– И все же я не понимаю. Почему возможные вещи не могут существовать?
– Я скажу по-другому. Силы, создающие все материальное, что, как нам кажется, существует вокруг нас, нельзя измерить, взвесить или даже отнести к тому или иному моменту известного нам времени. Одна из форм, в которых проявляются эти силы, – фотоны света. Для них мельчайшая частица вещества – целая вселенная свободного пространства, а весь наш мир – только пылинка. То, что мы называем Вселенной, – это лишь наша идея, и к тому же не слишком удачная. С точки зрения света, жизнетворного фотона, известная нам Вселенная нереальна. Ничто в ней не реально. Теперь вы понимаете?
– Не совсем. Если все, что представляется нам известным, на самом деле неправильно или нереально, то как мы можем знать, что нам делать, как нам жить, как не сойти с ума?
– Мы обманываем себя, – ответил он, и в его янтарных глазах плясали золотые искорки смеха. – Нормальный человек просто лучше умеет обманывать, чем сумасшедший. Вы с Абдуллой братья. Я знаю это. Ваши глаза лгут, говоря вам, что вы не похожи. И вы верите лжи, потому что так легче.
– И поэтому мы не сходим с ума?
– Да. Позвольте сказать вам, что я вижу в вас своего сына. Я не был женат, и у меня нет детей, но в моей жизни был момент, когда я мог жениться и иметь сына. Это было… Сколько вам лет?
– Тридцать.
– Я так и знал! Тот момент, когда я мог стать отцом, был ровно тридцать лет назад. Но если я скажу вам, что вы мой сын, а я ваш отец, и я это ясно вижу, вы подумаете, что это невозможно. Вы не поверите этому. Вы не увидите той правды, которую вижу я и которая сразу стала ясна мне в тот миг, когда мы впервые встретились несколько часов назад. Вы предпочтете поверить удобной лжи, говорящей, что мы незнакомцы и между нами нет ничего общего. Но судьба – вы знаете, что такое судьба? На урду ее называют кисмет, – судьба может сделать с нами все что угодно, кроме двух вещей. Она не может управлять нашей свободной волей и не может лгать. Люди лгут – чаще себе, чем другим, а другим лгут чаще, чем говорят правду. Но судьба не лжет. Это вы понимаете?
Это я понимал. Понимало мое сердце, хотя мой возмущенный разум не хотел соглашаться с его словами. Каким-то непонятным образом этому человеку удалось нащупать во мне эту печаль, пустоту в моей жизни, которую должен был заполнять мой отец. Спасаясь от преследования, я скитался в этой пустоте, испытывая подчас такую тоску по отцовской любви, какая накатывает на целый тюремный корпус заключенных в последние часы перед наступлением нового года.
– Нет, – соврал я. – Прошу меня простить, но я не могу согласиться, что можно сделать вещи реальными, просто поверив в них.
– Я такого не говорил, – возразил он терпеливо. – Я сказал, что реальность, какой она предстает перед вами и перед большинством людей, всего лишь иллюзия. За тем, что видят наши глаза, есть другая реальность, и ее надо почувствовать сердцем. Иного пути нет.
– Понимаете… То, как вы смотрите на вещи, сбивает с толку. Это какое-то… хаотичное восприятие. А вы сами не находите его хаотичным?
Он опять улыбнулся:
– Нелегко посмотреть на мир под правильным углом зрения. Но есть вещи, которые мы можем познать, в которых можем быть уверены. И сделать это не так уж трудно. Позвольте мне продемонстрировать это вам. Для того чтобы познать истину, достаточно закрыть глаза.
– Всего-навсего? – рассмеялся я.
– Да. Все, что нужно сделать, – закрыть глаза. Мы можем, например, познать Бога и печаль. Мы можем познать мечты и любовь. Но все это нереально – в том смысле, какой мы придаем вещам, которые существуют в мире и кажутся реальными. Это нельзя взвесить, измерить или разложить на элементарные частицы в ускорителе. И потому все это возможно.
Моя лодка дала течь, и я решил, что пора выбираться на берег.
– Я никогда не слышал об этом ночном клубе. Таких в Бомбее много?
– Штук пять, – ответил он, с невозмутимой терпеливостью согласившись сменить тему разговора. – Вы считаете, это много?
– Мне кажется, это достаточное количество. Здесь не видно женщин. Они не допускаются?
– Им не запрещено приходить сюда, – нахмурился он, подыскивая точные слова. – Но они не хотят приходить. У них есть свои места, где они собираются, чтобы обсудить свои дела, послушать музыку и пение, а мужчины в свою очередь предпочитают не беспокоить их там.
К нам подошел очень пожилой человек в костюме, известном под названием курта-паджама и состоящем из простой холщовой рубахи и тонких мешковатых штанов. Старик сел у ног Кадербхая. Он был худ, согбен и, несомненно, беден. Лицо его было изборождено глубокими морщинами, белые волосы высоко подбриты, как у панка. Коротко, но уважительно кивнув Кадеру, он начал перемешивать табак и гашиш своими узловатыми пальцами. Через несколько минут он протянул Кадеру огромный чиллум, держа наготове спички, чтобы разжечь его.
– Этого человека зовут Омар, – сказал Кадербхай. – Никто в Бомбее не умеет приготовить чиллум лучше его.
Польщенный, Омар расплылся в беззубой улыбке, зажег спичку и дал Кадербхаю прикурить. Затем он передал чиллум мне и, понаблюдав критическим взором за тем, как я с ним обращаюсь, нечленораздельно буркнул что-то одобрительное. После того как мы с Кадером сделали по две затяжки, Омар закурил чиллум сам и прикончил его мощными затяжками, от которых его впалая грудь вздымалась так, что, казалось, вот-вот лопнет. Вытряхнув остатки белого пепла из чиллума, старик пососал его, чтобы высушить. Кадербхай с одобрением кивнул. Несмотря на свой почтенный возраст, Омар легко поднялся на ноги, не касаясь руками пола, и удалился, а в это время на сцену снова вышли певцы.
Вернулся и Абдулла, принесший с собой хрустальную чашу, наполненную ломтиками манго, папайи и арбуза. Аромат фруктов разнесся в воздухе, а сами они таяли у нас во рту. Второе отделение концерта состояло всего из одной песни, но длилась она почти полчаса. Звучала песня очень величественно; в ее основе лежала простая мелодия, которую исполнители украшали импровизированными каденциями. Музыканты аккомпанировали певцам, вовсю наяривая на таблах[60 — Табла – небольшой барабан овальной формы.], но лица певцов были бесстрастны, они сидели закрыв глаза и не шевелясь.
Когда певцы закончили выступление, публика, сбросив оцепенение, вновь начала болтать. Абдулла наклонился ко мне:
– Пока мы ехали сюда, мистер Лин, я всю дорогу думал о словах Кадербхая насчет того, что мы братья.
– И я тоже.
– У меня было два брата дома, в Иране, но их обоих убили во время войны с Ираком. Сестра у меня есть, а братьев не осталось. Быть единственным братом – это печально, вы согласны?
Что я мог ответить ему? Мой брат был потерян для меня, как и вся семья.
– Я подумал, что, может быть, Кадербхай сказал правду. Может быть, мы действительно похожи, как братья.
– Возможно.
Он улыбнулся:
– Я решил, что вы мне нравитесь, мистер Лин.
Несмотря на улыбку, это звучало так торжественно, что я не смог удержаться от смеха.
– В таком случае перестань называть меня «мистер Лин», ухо режет.
– Хорошее английское выражение! Совсем отрезает? – усмехнулся он.
– Не совсем, но чувствительно. Короче, давай обращаться друг к другу на «ты».
– Хорошо. Я буду называть тебя Лин, брат Лин. А ты называй меня Абдулла, ладно?
– Ладно.
– И мы навсегда запомним ночь, когда мы были на концерте Слепых певцов, потому что в эту ночь мы побратались.
– Ты сказал, слепых певцов?
– Да. Ты не знал? Это знаменитые Слепые певцы из Нагпура. Их очень любят в Бомбее.
– Они из какого-то специального учреждения?
– Учреждения?
– Ну да, из какой-нибудь школы для слепых или чего-нибудь в этом роде?
– Нет, брат Лин. Раньше они не были слепыми и могли видеть, как и мы. Но однажды в деревушке возле Нагпура было произведено ослепление, и они перестали видеть.
От шума у меня уже начинала болеть голова, а смешанный запах фруктов и чараса, столь приятный поначалу, приелся, и захотелось вдохнуть свежего воздуха.
– Что значит «было произведено ослепление»?
– Ну, понимаешь, в горах около их деревни прятались бандиты, повстанцы, – принялся объяснять мне Абдулла в своей неторопливой, рассудительной манере. – Крестьянам приходилось давать им еду и оказывать разную помощь. У них не было выбора. А потом в деревню пришли солдаты и полицейские и ослепили двадцать человек в назидание крестьянам из других деревень. Такое иногда случается. А певцы даже не были из этой деревни. Они приехали туда, чтобы выступить на празднике. Им не повезло – их ослепили вместе с остальными. Всех их, двадцать мужчин и женщин, привязали на земле и выкололи им глаза острыми бамбуковыми палками. Теперь Слепые певцы поют всюду, по всей Индии, они стали знамениты и разбогатели…
Я слушал его рассказ и не знал, что сказать на это, как отреагировать. Кадербхай рядом со мной разговаривал с молодым афганцем в тюрбане. Молодой человек склонился, чтобы поцеловать руку Кадербхая, и в складках его одежды проглянул пистолет. Вернулся Омар, чтобы приготовить нам еще один чиллум. Он ухмыльнулся мне, обнажив почерневшие от чараса десны, и кивнул.
– Да-да, – прошепелявил он, заглядывая мне в глаза. – Да, да, да.
Певцы опять появились на сцене. Дым поднимался к потолку, завихряясь спиралью вокруг медленно вращавшихся лопастей вентиляторов. И в этом зале, обтянутом зеленым шелком, наполненном музыкой и доверительным бормотанием, началась новая фаза моей жизни. Теперь я знаю наверняка: в жизни человека не раз бывают такие поворотные моменты, дающие начало чему-то новому. Все зависит от удачи, от твоей воли и от судьбы. Таким началом был тот день, когда в деревне Прабакера река вышла из берегов и женщины дали мне имя Шантарам. Теперь я это знаю. И еще одно я понял: все, что я делал и кем я был в Индии до этого концерта Слепых певцов, а может быть, и вся моя предыдущая жизнь, было лишь подготовкой к встрече с Абделем Кадер-ханом. Абдулла стал моим братом, Кадербхай стал моим отцом. К тому моменту, когда я осознал это полностью и разобрался в причинах, я успел в качестве брата и сына побывать на войне, оказался замешанным в убийствах и все в моей жизни изменилось бесповоротно.
Пение прекратилось, и Кадербхай наклонился ко мне. Губы его шевелились, но я не мог разобрать, что он говорит.
– Простите, я не расслышал.
– Я сказал, что чаще всего истину можно найти в музыке, а не в философских трактатах.
– Но что такое истина? – спросил я. Не то чтобы это так уж интересовало меня в тот момент. Я просто хотел поддержать умный разговор.
– Истина в том, что нет хороших или плохих людей. Добро и зло не в людях, а в их поступках. Люди остаются просто людьми, а с добром или злом их связывает то, что они делают – или отказываются делать. Истина в том, что в одном мгновении настоящей любви, в сердце любого человека – и благороднейшего из всех, и самого пропащего – заключена, как в чашечке лотоса, вся жизнь, весь ее смысл, содержание и назначение. Истина в том, что все мы – каждый из нас, каждый атом, каждая галактика и каждая частица материи во Вселенной – движемся к Богу.
Эти его слова остались со мной навсегда. Я и сейчас слышу их. Слепые певцы остались навсегда. Я вижу их. Та ночь, послужившая началом, и те два человека, ставшие моим отцом и братом, остались навсегда. Я помню их. Это легко. Для этого достаточно закрыть глаза.
Глава 10
Абдулла отнесся к нашему побратимству очень серьезно. Через неделю после концерта слепых певцов он появился в моей хижине с сумкой, набитой лекарствами, мазями и перевязочными средствами. Там же была металлическая коробочка с хирургическими инструментами. Я просмотрел вместе с ним все принесенное. Он закидал меня вопросами о назначении разных лекарств и о том, сколько их может понадобиться мне в будущем. Выяснив все, что его интересовало, он смахнул пыль с табурета и уселся на него. Некоторое время он молчал, наблюдая, как я раскладываю лекарства на бамбуковой этажерке. Трущобы вокруг нас гомонили, пели и смеялись.
– Ну и где же они, Лин? – спросил он наконец.
– Кто?
– Твои пациенты. Куда они подевались? Я хочу видеть, как мой брат занимается лечением. А какое может быть лечение, если нет больных?
– Видишь ли… сейчас у меня нет пациентов.
– О!.. – вздохнул он разочарованно. Побарабанив пальцами по колену, он спросил: – Хочешь, я приведу тебе пациентов?
Он уже привстал с табурета, и я живо представил себе, как он тащит упирающихся людей ко мне на прием.
– Нет-нет, успокойся. Я вообще не каждый день принимаю больных. И потом, если они видят, что я дома, то сами приходят ко мне, но попозже, часа в два. Так рано они не появляются. С утра, часов до двенадцати, они заняты своими делами. Да я и сам по утрам обычно работаю. Мне же надо добывать деньги.
– А сегодня?
– Сегодня я могу отдохнуть. На прошлой неделе я заработал довольно много, так что на какое-то время хватит.
– А как ты заработал?
Он смотрел на меня с простодушным любопытством, не сознавая, что вопрос может оказаться бестактным и смутить меня.
– Знаешь, Абдулла, невежливо спрашивать иностранцев, как они зарабатывают на жизнь, – ответил я, смеясь.
– Понятно, – улыбнулся он. – Подпольный бизнес.
– Ну, не совсем… Но раз уж ты спрашиваешь, я объясню. Одна француженка хотела купить полкило чараса, и я ей помог. А еще я помог немецкому туристу продать камеру «Кэнон» по выгодной цене. От них обоих я получил комиссионные.
– И сколько? – спросил он, глядя мне в лицо.
Глаза его были бледно-карими, почти золотыми. Такого цвета бывают песчаные дюны в пустыне Тар перед наступлением сезона дождей.
– Около тысячи рупий.
– За каждое из этих дел?
– Нет, за оба вместе.
– Это очень маленькие деньги, брат Лин, – кинул он, презрительно скривив губы и сморщив нос. – Совсем-совсем крошечные.
– Ну, может, для тебя они и крошечные, – пробормотал я, – а я могу прожить на них недели две.
– А сейчас ты, значит, свободен?
– В каком смысле?
– У тебя нет пациентов?
– Нет.
– И свои маленькие комиссионные тебе тоже не надо зарабатывать?
– Нет, не надо.
– Тогда поехали.
– И куда же это?
– Поехали, там увидишь.
Выйдя из хижины, мы столкнулись с Джонни Сигаром, который, по всей вероятности, подслушивал. Он улыбнулся мне, состроил грозную мину Абдулле, затем решил улыбнуться мне вторично, хотя на этот раз к улыбке примешались остатки грозной мины.
– Привет, Джонни. Я уезжаю на некоторое время. Последи, чтобы детишки не копались у меня в лекарствах, ладно? Я сегодня разложил на этажерке кое-какие новые средства, и среди них есть опасные.
Джонни оскорбленно выпятил челюсть:
– Никто ничего не тронет в твоей хижине, Линбаба! О чем ты говоришь? Ты можешь оставить здесь миллион рупий, и он будет цел. Можешь оставить золото. Центральный банк Индии не такое надежное место, как хижина Линбабы.
– Я только хотел сказать…
– Даже алмазы можешь положить здесь. И изумруды. И жемчуга.
– Понятно-понятно, Джонни. Я учту это на будущее.
– Да о чем вообще беспокоиться? – вмешался Абдулла. – Он получает так мало денег, что они никого не могут заинтересовать. Знаешь, сколько он заработал на прошлой неделе?
Джонни, похоже, относился к Абдулле с подозрением. На лице его сохранялась враждебная мина, но любопытство одержало верх.
– Сколько? – спросил он.
– Не вижу смысла говорить об этом сейчас, – проворчал я, боясь, что обсуждение моих крошечных заработков затянется на целый час.
– Тысячу рупий! – сказал Абдулла, плюнув для пущей выразительности.
Взяв Абдуллу за руку, я потащил его по дорожке между хижинами.
– Хорошо, Абдулла. Ты же хотел отвезти меня куда-то. Так поехали, брат.
Мы направились к выходу, но Джонни нагнал нас и, схватив меня за рукав, заставил отойти на два шага назад.
– Господи, Джонни! У меня нет никакого желания беседовать сейчас о моих заработках. Обещаю тебе, что отвечу на все твои вопросы, когда вернусь.
– Нет, Линбаба, я не о заработках, – проскрежетал он скрипучим шепотом. – Я об этом парне, об Абдулле. Ему нельзя доверять. Не занимайся с ним никаким бизнесом!
– Что это значит? В чем дело, Джонни?
– Ну, просто… не занимайся! – Возможно, он добавил бы что-нибудь еще, но Абдулла, обернувшись, окликнул меня, и Джонни с надутым видом отступил и исчез за поворотом.
– Что за проблема? – спросил Абдулла, когда я нагнал его.
– Никаких проблем, – пробормотал я, понимая, что проблема есть. – Совсем никаких.
Абдулла оставил свой мотоцикл у тротуара возле трущоб, поручив группе маленьких оборванцев присмотреть за ним. Самый старший схватил бумажку в десять рупий, которую Абдулла дал им за работу, и вся команда тут же вприпрыжку унеслась. Абдулла завел мотоцикл, я сел на заднее сиденье, и мы в своих тонких рубашках и без всяких шлемов понеслись в потоке транспорта вдоль берега моря в сторону Нариман-Пойнта.
Если вы хоть чуточку разбираетесь в мотоцикле, то можете понять очень многое в человеке по тому, как он ведет его. Абдулла вел мотоцикл инстинктивно, не задумываясь, так же естественно, как передвигал ноги при ходьбе. Ориентироваться в уличном движении ему помогали мастерство и интуиция. Несколько раз он замедлял ход, когда, на мой взгляд, в этом не было необходимости, но сразу после этого другим водителям, не обладавшим такой же интуицией, приходилось резко нажимать на тормоза. Порой он прибавлял газу, хотя казалось, что мы столкнемся с идущим впереди транспортом, но транспорт, словно по волшебству, разъезжался в стороны, и мы захватывали освободившееся пространство. Сначала его манера вождения немного нервировала меня, но вскоре я невольно проникся доверием к нему и успокоился.
Возле пляжа Чаупатти мы свернули с набережной, и сплошная стена высоких домов отрезала доступ прохладному морскому бризу. Вместе с табунами других машин, оставлявших за собой дымный шлейф, мы помчались в сторону Нана-Чоука. Здания в этом районе были возведены в период, когда Бомбей интенсивно развивался как крупный портовый город. Некоторым из них, построенным по строгим геометрическим правилам эпохи британского владычества, было уже двести лет. Многочисленные балконы, узорное обрамление окон и ступенчатые фасады придавали зданиям пышную элегантность, какой не хватало современным домам с их хромом и блеском.
Часть города между Нана-Чоуком и Тардео была известна как район парсов. Поначалу меня удивляло, что в этом огромном мегаполисе, с его многообразием народностей, языков и жизненных укладов, люди стремятся обособиться отдельными группами. Ювелиры торговали на своем ювелирном базаре, а слесари, плотники и прочие ремесленники – на своих; мусульмане жили в мусульманском квартале, а христиане, буддисты, сикхи, парсы и джайны – в своих. Если вы хотели купить или продать золото, надо было идти на базар Завери, где сотни ювелиров пытались перехватить клиентов друг у друга. Если вы решили посетить мечеть, то оказывались в районе, где мечети теснились чуть ли не вплотную друг к другу.
Но вскоре я убедился, что эти границы, как и прочие демаркационные линии в этом городе, с его смешением языков и культур, не так уж строго соблюдаются. В мусульманском квартале встречались и индуистские храмы; на базаре Завери среди сверкающих драгоценностей попадались овощи, и практически возле каждого многоэтажного дома с роскошными квартирами простирались трущобы.
Абдулла остановился около больницы Бхатия, одной из современных клиник, которые содержались за счет благотворительных фондов, основанных парсами. В здании внушительных размеров имелись и комфортабельные палаты для богатых, и бесплатные – для бедняков. Поднявшись на крыльцо, мы вошли в стерильно чистый мраморный вестибюль, где большие вентиляторы нагнетали приятную прохладу. Абдулла поговорил с регистраторшей и повел меня по забитому народом коридору в палату скорой помощи, соседствовавшую с приемным покоем. Обратившись еще несколько раз к санитарам и медсестрам, он наконец нашел того, кого искал, – маленького тщедушного врача, который сидел за столом, заваленным бумагами.
– Доктор Хамид? – спросил Абдулла.
– Да, это я, – раздраженно отозвался доктор, продолжая писать.
– Я от шейха Абделя Кадера. Меня зовут Абдулла.
Доктор сразу перестал писать и, медленно подняв голову, уставился на нас с тревожным любопытством. Такое выражение появляется на лицах прохожих, наблюдающих за уличной дракой.
– Он должен был позвонить вам вчера и предупредить о моем приходе, – напомнил ему Абдулла.
– Да-да, – спохватился доктор и, широко улыбнувшись, поднялся и пожал нам руки. Его рука была очень тонкой и сухой.
– Это мистер Лин, – представил меня Абдулла. – Он доктор в колабских трущобах.
– Нет-нет, – возразил я. – Я совсем не доктор. Меня просто… попросили помочь там. У меня нет медицинского образования и соответствующей подготовки.
– Кадербхай сообщил мне о ваших жалобах на то, что больница Святого Георгия и некоторые другие отказываются принимать пациентов, которых вы им направляете, – сразу перешел Хамид к делу, оставив без внимания мои претензии на скромность, как человек, у которого нет времени на неуместные расшаркивания. Его темно-карие, почти черные, глаза поблескивали за стеклами очков в золоченой оправе.
– Ну да, было такое, – ответил я, удивленный тем, что Кадербхай запомнил мою жалобу и счел необходимым передать ее доктору Хамиду. – Дело в том, что я работаю, так сказать, вслепую. Порой я не знаю, что делать с больными, которые приходят ко мне. Если я не могу установить диагноз или сомневаюсь в нем, то посылаю людей в больницу Святого Георгия – ничего другого мне не остается. Но очень часто они возвращаются, так и не получив помощи ни от врача, ни от медсестры, ни от кого.
– Может быть, они просто симулируют болезнь? – спросил доктор.
– Да нет, что вы! – оскорбился я и за себя, и еще больше за обитателей трущоб. – Какая им в этом выгода? И потом, у них же есть чувство собственного достоинства. Это не попрошайки какие-нибудь.
– Конечно-конечно, – пробормотал он и, сняв очки, потер вмятины, оставленные ими на переносице. – А вы сами не пробовали пойти в больницу и выяснить, почему они их отсылают?
– Да, я ходил туда дважды. Мне сказали, что рады бы помочь, но они и так перегружены работой и что если бы у больных было направление от какого-нибудь врача, обладающего лицензией, то они поставили бы их в очередь на прием. Я не жалуюсь на сотрудников больницы. Понятно, у них и без того забот выше головы. Персонала не хватает, а больных с избытком. Я в своем медпункте принимаю до пятидесяти пациентов в день, а к ним ежедневно приходят шестьсот, а то и тысяча. Да вам и без меня прекрасно известно, как это бывает. Уверен, они делают все, что могут, но еле успевают справиться с пострадавшими от несчастных случаев. Проблема в том, что у моих больных просто нет средств, чтобы заплатить врачу за направление в больницу. Поэтому они обращаются ко мне.
Доктор Хамид приподнял брови, и лицо его опять осветила широкая улыбка.
– Вы сказали «мои больные». Вы уже чувствуете себя индийцем, мистер Лин?
Я рассмеялся и впервые ответил ему на хинди строчкой из песни, звучащей рефреном в популярном кинофильме, который шел тогда во многих кинотеатрах города:
– «Мы стараемся стать лучше в этой жизни».
Доктор тоже засмеялся и даже всплеснул руками в приятном удивлении:
– Знаете, мистер Лин, думаю, я смогу помочь вам. Здесь я дежурю два дня в неделю, а остальное время работаю у себя в кабинете на Четвертой Почтовой улице.
– Я знаю эту улицу. Она очень близко от нас.
– Вот именно. Мы с Кадербхаем договорились, что вы будете посылать пациентов ко мне, а я уже направлю их в больницу Святого Георгия, если это будет необходимо. Мы можем начать прямо с завтрашнего дня, если хотите.
– Конечно хочу! – воскликнул я. – Это просто великолепно! Огромное вам спасибо. Я пока не знаю, как организовать оплату вам, но…
– Не за что меня благодарить, и не беспокойтесь насчет оплаты, – ответил он, взглянув на Абдуллу. – Ваших людей я буду принимать бесплатно. Вы не хотите выпить вместе со мной чая? У меня скоро перерыв. Напротив больницы есть ресторанчик. Не могли бы вы подождать меня там? Нам надо обсудить кое-какие подробности.
Мы с Абдуллой прождали его минут двадцать в ресторане, наблюдая через большое окно за тем, как к больничному входу ковыляют бедные пациенты и подъезжают на машинах богатые. Затем появился доктор Хамид, и мы договорились о процедуре направления к нему больных из трущоб.
У всех хороших врачей есть по крайней мере три общих свойства: они умеют наблюдать, они умеют слушать и не умеют заботиться о себе. Хамид был хорошим врачом, и когда, после затянувшегося на целый час обсуждения наших дел, я взглянул на его преждевременные морщины и покрасневшие от недосыпания глаза, то почувствовал неловкость. Он мог бы, если бы захотел, быстро разбогатеть, занявшись частной практикой в Германии, США или Канаде, но он предпочел остаться на родине, зарабатывая гораздо меньше. Он был одним из тысяч и тысяч бомбейских медиков, которые мало получали от жизни, но в своей ежедневной работе достигали очень многого. По сути дела, они обеспечивали выживание города.
Когда мы на мотоцикле вновь затесались в переплетение транспортных цепочек, лихо лавируя среди автобусов, автомобилей, грузовиков, буйволовых повозок, велосипедистов и пешеходов, Абдулла крикнул мне через плечо, что раньше доктор Хамид тоже жил в трущобах. Кадербхай выискивал в трущобах по всему городу одаренных детей и платил за их обучение в частных колледжах, а потом и в высших учебных заведениях. Они становились врачами, медсестрами, учителями, инженерами, юристами. Так больше двадцати лет назад был выбран Кадербхаем и Хамид, и теперь, помогая моим больным, он отдавал свой долг.
– Кадербхай из тех, кто создает будущее, – сказал Абдулла, когда мы остановились на перекрестке. – Большинство людей – и мы с тобой, брат мой, – просто ждут, когда будущее наступит. Но Абдель Кадер-хан сначала мечтает о будущем, потом планирует его, а потом строит согласно плану. В этом разница между ним и всеми остальными.
– А как насчет тебя, Абдулла? – заорал я, потому что двигатель взревел и мы опять понеслись вперед. – Тебя Кадербхай тоже запланировал?
Абдулла громко расхохотался.
– Думаю, что да! – крикнул он.
– Алло, мы же едем не в сторону трущоб. Куда ты меня опять везешь?
– Туда, где ты будешь получать лекарства.
– Получать лекарства?
– Кадербхай распорядился, чтобы тебе доставляли лекарства каждую неделю. То, что я привез тебе сегодня, – это первая партия. Мы едем на медицинский черный рынок.
– Черный рынок лекарств? А где это?
– В трущобах прокаженных, – объяснил мне Абдулла деловитым тоном. И, ввинтившись в образовавшуюся между двумя передними машинами щель, засмеялся. – Не беспокойся ни о чем, брат Лин. Оставь это мне. Теперь ты тоже часть плана.
Мне следовало бы прислушаться к этим словам, «теперь ты тоже часть плана», как к сигналу тревоги. Но я не чувствовал никакой тревоги, я был почти счастлив. Эти слова возбуждали меня, впрыскивали адреналин мне в кровь. Совершив побег, я оставил позади свою семью, родину, цивилизацию. Я думал, что моя жизнь закончилась. И вот теперь, проведя несколько лет в изгнании, я вдруг увидел, что бегу не только от старого, но и к новому. Побег принес мне одинокую беспечную свободу отверженного. Подобно всем отверженным, я приветствовал любую опасность, потому что чувство опасности принадлежало к немногим сильным ощущениям, которые помогали мне забыть то, что я потерял. Петляя с Абдуллой на мотоцикле по паутине городских улиц, всматриваясь в теплоту встречного ветра, я так же безоглядно ворвался в свою судьбу, как влюбляются в прекрасную улыбку застенчивой женщины.
Колония прокаженных находилась на окраине города. В Бомбее было несколько специальных лепрозориев, но те, к кому мы ехали, не хотели там жить. В этих заведениях, среди которых имелись как государственные, так и частные, для больных были созданы хорошие условия, за ними ухаживали, пытались их лечить, но там приходилось подчиняться очень строгим правилам, и не всем это было по душе. Самых недисциплинированных изгоняли из лепрозориев, некоторые покидали их сами. В результате несколько десятков прокаженных постоянно жили на воле, участвуя в жизни города.
Необычайная терпимость жителей трущоб, гостеприимно принимавших людей любой расы, касты и социального положения, не распространялась лишь на прокаженных. Районная администрация и уличные комитеты, как правило, не приветствовали их присутствия на своей территории. Их боялись и сторонились, и потому прокаженные жили во временных трущобах, раскидывая свой лагерь за какой-нибудь час на любом свободном пространстве, какое могли найти, и еще быстрее сворачивая его. Иногда они поселялись на несколько недель на участке, где были свалены промышленные отходы, или около одной из городских свалок, распугивая постоянно промышлявших там старьевщиков, и те, естественно, оказывали им сопротивление. В тот день мы с Абдуллой обнаружили их поселение на пустующей полоске земли возле железнодорожного полотна в Кхаре, одном из пригородов Бомбея.
Нам пришлось оставить мотоцикл в стороне и пробираться к лагерю прокаженных тем же путем, каким ходили они сами, – пролезая через дыры в заграждениях и перепрыгивая через канавы. Участок, который они выбрали, служил местом сосредоточения составов, в том числе и тех, что вывозили продукты и промышленные товары из города. Рядом с сортировочной станцией находились административные здания, склады и депо. Вся территория была опутана сетью сходящихся и расходящихся маневровых путей и огорожена по периметру высоким проволочным забором.
Вокруг процветала обеспеченная жизнь благоустроенного пригорода с интенсивным транспортным движением, садами, террасами и базарами. А на безжизненной территории внутри проволочного заграждения царила голая, безжизненная функциональность. Здесь не росли растения, не бегали животные, не ходили люди. Даже составы, на которых не было ни железнодорожных служащих, ни пассажиров, перемещались с одного запасного пути на другой как некие призрачные существа. И здесь расположилась колония прокаженных.
Они захватили небольшой участок свободного пространства между железнодорожными путями и возвели на нем свои жилища, в высоту едва доходившие до моей груди. Издали поселение было похоже на армейский бивак, окутанный дымом костров, на которых готовят пищу. Вблизи перед нами предстало такое убожество, по сравнению с которым хижины в наших трущобах казались прочными комфортабельными постройками. Здешние времянки были сооружены из листов картона и пластмассы, связанных тонкими бечевками и подпертых сучьями и кольями. Все это поселение можно было снести одним махом за какую-то минуту, а между тем оно служило жильем для четырех десятков мужчин, женщин и детей.
Мы совершенно свободно зашли на территорию и направились к одной из центральных хижин. При виде нас люди застывали на месте и провожали нас глазами, но никто не пытался заговорить. Я невольно таращил глаза на здешних жителей, не в силах отвести взгляд. У некоторых из них не было носов, у большинства – пальцев на руках; ноги их были обмотаны окровавленным тряпьем, а кое у кого процесс разложения зашел так далеко, что они были лишены губ или ушей.
Особенно ужасное впечатление производили изувеченные женщины – не знаю даже почему. Может быть, потому, что ты сознавал, сколько они потеряли вместе со своей природной красотой. У многих мужчин был вызывающий и даже лихой вид – своеобразное драчливое уродство, само по себе подкупающее, а женщины держались застенчиво и чуть испуганно. Голод, понятно, не украшал ни тех ни других. Однако у большинства детей не было видно следов болезни, они выглядели вполне здоровыми – разве что были очень истощены. Им приходилось трудиться не покладая рук, поскольку у старших, как правило, нормальных рук не было.
По-видимому, весть о нашем прибытии распространилась по всему лагерю: из лачуги, к которой мы направлялись, выбрался какой-то человек и стоял, поджидая нас. К нему сразу же подбежали двое детей, чтобы поддержать его. Он был крошечного роста, едва доходил мне до пояса. Болезнь безжалостно изуродовала его, начисто уничтожив губы и почти всю нижнюю часть лица и обнажив темную узловатую плоть, на которой выделялись десны с зубами и зиял темный провал на месте носа.
– Абдулла, сын мой, – сказал он на хинди, – как ты поживаешь? Ты завтракал сегодня?
– У меня все хорошо, Ранджитбхай, – почтительно ответил Абдулла. – Я привез гору, который хочет познакомиться с тобой. Мы недавно поели, но чая выпьем с удовольствием.
Дети притащили нам стулья, и мы расселись перед лачугой Ранджита. Вокруг нас собралось несколько человек, кое-кто из них опустился на землю.
– Это Ранджитбхай, – обратился ко мне Абдулла на хинди громким голосом, чтобы всем было слышно. – Он здесь, в колонии прокаженных, царь и бог, председатель клуба кала топи.
Кала топи означает на хинди «черная шляпа»; так часто называют воров, потому что в бомбейской тюрьме на Артур-роуд воров заставляют носить шляпы с черными лентами. Я не понял, почему Абдулла употребляет это прозвище по отношению к местным жителям, но все они, включая Ранджита, восприняли его слова с улыбкой и даже повторили их несколько раз.
– Приветствую вас, Ранджитбхай, – произнес я на хинди. – Меня зовут Лин.
– Ап доктор хайн? – спросил он. – Вы доктор?
– Нет! – воскликнул я чуть ли не в панике, поскольку их болезнь приводила меня в замешательство, я не имел понятия, как лечить ее, и боялся, что он попросит меня помочь им. И обратился к Абдулле, перейдя на английский: – Скажи ему, что я не доктор, я просто умею оказывать первую помощь, залечивать крысиные укусы, царапины и тому подобные вещи. Объясни ему, что у меня нет необходимой медицинской подготовки и что я ни бельмеса не смыслю в проказе.
– Да, он доктор, – объяснил Ранджитбхаю Абдулла.
– Ну спасибо, братишка! – процедил я сквозь зубы.
Дети принесли нам стаканы с водой и чай в щербатых чашках. Абдулла выпил воду большими глотками. Ранджит запрокинул голову, и один из мальчиков влил воду прямо ему в горло. Я колебался, устрашенный гротескной картиной, которую видел вокруг. У нас в трущобах прокаженных называли «недоумершими», и мой стакан представлялся мне вместилищем всех кошмаров, связанных с этим полуживым состоянием.
Однако Абдулла наверняка отдавал себе отчет в том, что делает, когда пил воду, и я решил, что можно рискнуть. В конце концов, я рисковал ежедневно. После великой авантюры с побегом опасность поджидала меня постоянно. Бесшабашным широким жестом изгнанника, которому нечего терять, я поднес стакан ко рту и опрокинул его. Сорок пар глаз следили за тем, как я пью.
У Ранджита были глаза медового цвета, их заволакивала легкая пелена – очевидно, симптом катаракты в начальной стадии. Он несколько раз окинул меня с ног до головы пристальным взглядом, полным откровенного любопытства.
– Кадербхай сказал мне, что вам нужны лекарства, – медленно проговорил он по-английски.
Зубы Ранджита слегка щелкали, когда он говорил, и, поскольку он не мог помочь себе губами, понять то, что он произносил, было непросто. Ему не давались звуки «б», «ф», «п» и «в», не говоря уже о «м» и «у». К тому же наши губы, произнося те или иные слова, одновременно передают различные оттенки значения, наше настроение, отношение к тому, о чем мы говорим. Этих выразительных средств Ранджит был лишен, как и пальцев, которые могли бы помочь ему изъясниться. Но рядом с ним стоял мальчик – возможно, его сын, – и он, как переводчик, отчетливо повторял слово за словом все сказанное Ранджитом, выдерживая тот же темп и не отставая от него.
– Мы всегда рады помочь господину Абделю Кадеру, – произнесли они на два голоса. – Оказать ему услугу – это честь для меня. Мы можем давать вам много лекарств каждую неделю без всяких проблем. Высококачественные лекарства, вы убедитесь.
Они выкрикнули какое-то имя, и мальчик лет тринадцати пробился через толпу и положил передо мной холщовый сверток. Он развернул холстину, и я увидел широкий ассортимент ампул и пузырьков. Все они были снабжены этикетками и выглядели абсолютно новыми. Среди них были морфина гидрохлорид[61 — Морфина гидрохлорид – обезболивающее средство.], пенициллин, средства против стафилококковой и стрептококковой инфекций.
– Где они достают все это? – спросил я Абдуллу.
– Крадут, – ответил он на хинди.
– Крадут? Где? Как?
– Бахут хошияр, – ответил он. – Очень изобретательно.
– Да, да! – поддержал его целый хор голосов, звучавший очень гордо, без тени иронии, как будто он похвалил какое-то произведение искусства, являющееся продуктом их коллективного творчества.
«Мы хорошие воры», «Мы хитрые воры», – слышалось вокруг.
– А что они делают с этими лекарствами?
– Продают их на черном рынке, – объяснил мне Абдулла на хинди, чтобы его слова были понятны окружающим. – Благодаря лекарствам и другим краденым товарам им удается выжить.
– Но кто же станет покупать лекарства у них, если их можно достать в любой аптеке?
– Какой ты дотошный, брат Лин. Чтобы объяснить тебе это, я должен рассказать целую историю, а она длинная, рассчитанная на две чашки чая. Так что для начала давай возьмем еще по одной.
Окружающие рассмеялись шутке и сгрудились возле нас теснее, чтобы послушать историю. В этот момент пустой товарный вагон прогромыхал сам по себе по ближайшему пути, едва не задевая хижины. Никто не обратил на него внимания. По железнодорожному полотну прошелся рабочий в шортах и форменной рубашке защитного цвета, проверяя состояние рельсов. Время от времени он бросал взгляд на поселение прокаженных, но, миновав его, больше ни разу не обернулся. Нам подали чай, и Абдулла приступил к рассказу. Дети сидели на земле, прислонившись к нашим ногам и обнимая друг друга. Одна из девчушек доверчиво обвила руками мою правую ногу.
Абдулла говорил на хинди, употребляя очень простые фразы и повторяя их по-английски, если видел, что я не все понял. Начал он с эпохи британского владычества, когда англичане хозяйничали по всей Индии, от перевала Хайбер до Бенгальского залива. Иностранцы, ференги, ставили прокаженных ниже всех остальных слоев населения, сказал он, и они получали какую-либо помощь в последнюю очередь. Очень часто они были лишены лекарств, перевязочных средств, медицинского ухода. В случае голода, наводнения и прочих бедствий они зачастую не имели возможности воспользоваться даже традиционными народными средствами и лечебными травами. И прокаженным приходилось красть то, что они не могли достать иным путем. Постепенно они настолько преуспели в этом деле, что у них появились даже излишки, которые они стали продавать на собственном черном рынке.
По всей Индии, продолжал Абдулла, вечно было неспокойно – то и дело вспыхивали восстания и войны, процветал бандитизм. Кровь лилась рекой. Но гораздо чаще, чем на поле битвы, люди погибали от гнойных ран и эпидемий. Контроль за расходом лекарственных и перевязочных материалов служил важнейшим источником информации для полиции. Все проданное аптеками, клиниками или оптовыми торговцами строго учитывалось, и, когда эти цифры заметно превышали норму, принимались соответствующие меры, сопровождавшиеся арестами и даже убийствами. Предательский след, пахнущий лекарствами, в первую очередь антибиотиками, позволил выловить немало бандитов и повстанцев. А прокаженные на своем черном рынке продавали лекарства всем, не задавая лишних вопросов. Разветвленная сеть их тайных торговых точек существовала в каждом крупном индийском городе. Их клиентами были чаще всего террористы, сепаратисты, нелегалы или просто чересчур заметные преступники.
– Эти люди умирают, – завершил Абдулла свой рассказ цветистой фразой, как я и ожидал, – и они крадут жизнь для себя самих, а потом продают ее и другим умирающим.
Абдулла замолчал, и над нами нависла плотная, увесистая тишина. Все смотрели на меня. Похоже, их интересовало, как я буду реагировать на эту повесть об их печалях и достижениях, о жестоком бойкоте со стороны общества и об их незаменимости в криминальном мире. Дыхание со свистом вырывалось сквозь сжатые зубы из безгубых ртов. Посерьезневшие терпеливые глаза выжидательно уставились на меня.
– Можно… можно мне еще один стакан воды? – спросил я.
По-видимому, я оправдал ожидания, так как все принялись радостно смеяться. Несколько ребятишек сорвались с места, чтобы принести мне воды, а взрослые похлопывали меня по плечам и спине.
Ранджитбхай объяснил, что Сунил – мальчик, который принес нам сверток с лекарствами, – будет регулярно привозить медикаменты мне в трущобы в удобное для меня время. Он попросил меня, прежде чем мы уйдем, посидеть еще некоторое время, чтобы каждый из окружающих мужчин, женщин и детей мог прикоснуться к моей ноге. Мне казалось, что это унизительно для людей, и я стал уговаривать его отказаться от этой затеи. Но он настаивал, а затем с суровым выражением и каким-то ожесточенным блеском в глазах наблюдал, как его люди друг за другом стучат по моей ноге обрубками пальцев или почерневшими и потерявшими форму ногтями.
Час спустя Абдулла высадил меня возле Центра мировой торговли. Он тоже слез с мотоцикла и, импульсивно обхватив меня руками, сжал в крепком объятии. Я рассмеялся, и он недоуменно воззрился на меня:
– Что в этом смешного?
– Ничего смешного, – успокоил я его. – Просто я не ожидал таких медвежьих объятий.
– Медвежьих объятий? Это такое английское выражение?
– Ну да. Оно означает крепкие объятия, так у нас обнимаются друзья.
– Брат мой, – произнес он с легкой улыбкой, – завтра мы с Сунилом привезем тебе еще лекарств.
С этими словами он укатил, а я направился к своей хижине. Я огляделся вокруг, и наш поселок, представлявшийся мне поначалу забытой богом юдолью скорби, теперь показался мне крепким, жизнестойким маленьким городом безграничных возможностей и сбывающихся надежд. Его жители были сильными и здоровыми. Войдя в хижину, я закрыл за собой тонкую фанерную дверь, сел и заплакал.
«Страдание, – сказал мне однажды Кадербхай, – это способ испытать свою любовь, прежде всего любовь к Богу». Я не знал Бога, говоря его словами, но и как неверующий я не выдержал испытания в этот день. Я не мог любить Бога – как бы его ни звали – и не мог простить Его. Слезы текли у меня из глаз несколько минут, чего со мной не случалось очень давно, и я все еще сидел, погруженный в отчаяние, когда вдруг открылась дверь, вошел Прабакер и опустился передо мной на корточки.
– От него может быть большая опасность, Лин, – выпалил он без всяких предисловий.
– От кого? О чем ты?
– Об этом парне, Абдулле, который приходил к тебе сегодня. От него может быть очень большая опасность, если знакомиться с ним и особенно если делать какие-то дела с ним также.
– Что ты этим хочешь сказать?
Прабакер помолчал, на его открытом лице явственно выразилась внутренняя борьба.
– Он… убийственный человек, Лин, убийца. Он убивает людей. За деньги. Он гунда, гангстер, и работает на Кадербхая. Все знают это. Все, кроме тебя.
Я сразу же, не задавая больше вопросов и не требуя от Прабакера никаких доказательств, понял, что это правда и что я уже и сам знал это – или, во всяком случае, подозревал. Это было видно по тому, как люди обращались к Абдулле, по шепоту у него за спиной и по страху, с каким многие смотрели на него. Абдулла был похож на самых опасных и лучших людей, с какими я встречался в тюрьме. Так что это должно было – по крайней мере, в какой-то степени – быть правдой.
Я постарался трезво взглянуть на самого Абдуллу и на то, чем он занимается, и определить, каковы должны быть мои отношения с ним. Кадербхай был, несомненно, прав. У нас было много общего. Мы оба были способны применить при необходимости грубую силу и не боялись переступить закон. Мы оба были изгоями, одиночками в мире. Абдулла, как и я, был готов в любой момент умереть за то, что покажется ему достойным этого. Но я никого не убивал. Этим мы отличались друг от друга.
И несмотря ни на что, он мне нравился. Я подумал о том, как уверенно он держался в колонии прокаженных. Несомненно, в значительной степени уверенность и самообладание передались мне от Абдуллы. Рядом с ним я чувствовал себя сильным и ничего не боялся. Он был первым человеком из встреченных мною после побега, кто так действовал на меня. Таких людей называют в тюрьме стопроцентными парнями. Они, не задумываясь, поставят на кон свою жизнь ради друга, встанут плечом к плечу с ним против всего мира.
Эти парни так часто бывают героями книг и фильмов, что мы забываем, как редко они встречаются в жизни. Но я видел таких людей. Это был один из полезных уроков, которые я вынес из тюрьмы. Тюрьма срывает маску с человека. В тюрьме ты не можешь скрыть свою сущность. Ты не можешь притвориться крутым. Ты либо являешься таковым, либо нет, и это видно всем. И я убедился, что, когда на тебя прут с ножом – а со мной это случалось неоднократно – и встает вопрос, кто кого, среди сотен людей найдется один, кто ради дружбы пойдет с тобой до конца.
Тюрьма научила меня распознавать таких людей, и я знал, что Абдулла один из них. Для меня, преследуемого и постоянно готового, отбросив страх, вступить в схватку и умереть, сила, крутой характер и железная воля Абдуллы значили больше, чем все добро и вся истина мира. И в этот момент, сидя в своей хижине, где полосы света прорезали прохладную полутьму, я поклялся, что буду ему верным другом и братом, кем бы он ни был и что бы он ни делал.
Я посмотрел в обеспокоенное лицо Прабакера и улыбнулся ему. Он инстинктивно улыбнулся мне в ответ, и до меня вдруг дошло, что я внушаю ему уверенность и играю в его жизни такую же роль, какую Абдулла стал играть в моей. Дружба – это тоже своего рода лекарство, и рынок, на котором ее можно достать, тоже бывает черным.
– Не волнуйся, – сказал я, положив руку ему на плечо, – все будет в порядке. Все будет хорошо, ничего со мной не случится.
Глава 11
Дни, когда я занимался лечебной практикой в трущобах и усердно выколачивал комиссионные из туристов с холодными, как драгоценные камни, глазами, разворачивались друг за другом, подобно лепесткам лотоса на восходе солнца. Деньги у меня водились постоянно, порой и немалые. Однажды, спустя несколько недель после моего первого визита к прокаженным, я заключил сделку с группой итальянских туристов, которые хотели перепродать с выгодой для себя наркотики другим туристам в Гоа. Я помог им приобрести четыре кило чараса и две тысячи таблеток мандракса[62 — Мандракс – синтетический психотропный препарат.]. Мне нравилось иметь дело с итальянцами. Они знали, чего хотят от жизни, а делами занимались со вкусом. И они, как правило, не скупились, понимая, что хорошая работа требует и хорошей оплаты. Комиссионные, полученные за эту сделку, позволили мне жить несколько недель, не думая о деньгах. Работа в трущобах поглощала практически все мое время.
Был конец апреля, до сезона дождей оставалось чуть больше месяца. Обитатели трущоб активно готовились к его наступлению, работая без спешки, но не покладая рук. Все прекрасно знали, каких сюрпризов можно ожидать от затянутого тучами неба. Однако лица светились радостным возбуждением, потому что люди успели соскучиться по дождю за долгие месяцы иссушающей жары.
Казим Али Хусейн сформировал две бригады, которые помогали нетрудоспособным обитателям трущоб, вдовам, сиротам и женщинам-одиночкам отремонтировать и укрепить их жилища, а бригадирами назначил Прабакера и Джонни Сигара. Прабакер с добровольными помощниками из местных парней выискивал бамбуковые палки и обрезки пиломатериалов среди куч строительных отбросов рядом с возводившимся по соседству зданием. Джонни Сигар во главе пиратской банды уличных мальчишек рыскал по округе в поисках лежащих без присмотра кусков жести, пластика и парусины. Территория вокруг поселка постепенно очищалась от материалов, пригодных для защиты от дождя. Во время одной из экспедиций банде удалось раздобыть огромный кусок брезента, который, судя по его конфигурации, служил камуфляжным чехлом боевого танка в войсках. Его хватило, чтобы покрыть девять хижин.
Я работал вместе с группой молодых людей, которым было поручено расчистить сточные канавы от коряг и прочего мусора и углубить их в случае необходимости. За несколько месяцев в них накопилась масса всякой дряни: пластиковых бутылок, консервных и стеклянных банок – всего, до чего не добрались мусорщики, а крысы не пожелали съесть. Это было довольно грязное занятие, но я охотно взялся за него, потому что оно позволяло мне заглянуть во все уголки нашего поселка и познакомиться с сотнями людей, которых иначе я мог никогда не встретить. Эта работа считалась не менее престижной, чем любая другая, – в трущобах умеют ценить незаметный, но полезный труд, на который в приличном обществе смотрят с пренебрежением. К тем, кто помогал защитить поселок от приближающихся дождей, относились с особым уважением. Копошась в зловонных канавах, мы постоянно ловили на себе приветливые улыбки окружающих.
Наш командир Казим Али Хусейн был в курсе всех проводившихся работ. Он руководил людьми ненавязчиво, без всякого апломба, но авторитет его был непререкаем. Инцидент, происшедший в эти дни, лишний раз продемонстрировал это и убедил меня в его мудрости.
Однажды мы собрались в хижине Казима Али, чтобы послушать рассказ его старшего сына о его пребывании в Кувейте. Икбал, молодой человек двадцати четырех лет, с открытым взглядом и застенчивой улыбкой, работал в Кувейте в течение шести месяцев по контракту. Многие его товарищи горели желанием узнать у него как можно больше полезного для себя. Где легче достать выгодную работу? Кого из работодателей предпочесть? С кем лучше не иметь дела? Нельзя ли как-нибудь принять участие в сделках между черными рынками Бомбея и стран Персидского залива? Икбалу пришлось ежедневно в течение недели читать в переполненном отцовском доме маленькие импровизированные лекции, делясь своим бесценным опытом. Но в тот день его лекция была прервана раздавшимися неподалеку шумом и криками.
Поспешив на шум, мы обнаружили небольшую толпу, в центре которой насмерть схватились два парня из бригады Прабакера, Фарук и Рагхурам. Икбал и Джонни Сигар разняли дерущихся, а при появлении Казима Али сразу воцарилась тишина.
– В чем дело? – спросил он необычным для него суровым тоном. – Из-за чего вы сцепились?
– Он оскорбил нашего пророка Мухаммеда! – вскричал Фарук.
– А он нанес оскорбление Раме! – парировал Рагхурам.
Толпа опять загомонила, поддерживая спорящих или осыпая их проклятиями соответственно своим религиозным убеждениям. Казим Али дал им минуту на то, чтобы выговориться, затем поднял руки, призывая всех к молчанию.
– Фарук, Рагхурам, – сказал он, – вы же друзья. Вы знаете, что кулаки не разрешат ваш спор и что нет драки хуже, чем между друзьями и добрыми соседями.
– Но я же должен был вступиться за нашего пророка, да хранит его Аллах! – не мог успокоиться Фарук; однако гневный взгляд Казима Али заставил его замолчать и потупиться.
– Я тоже не могу спокойно слушать, когда оскорбляют Раму! – кричал в ответ Рагхурам.
– Этому не может быть оправданий! – загремел Казим Али. – Никакие разногласия между нами не должны разрешаться дракой! Мы бедные люди. У нас достаточно врагов за пределами нашего поселка. Если мы не будем держаться вместе, мы погибнем. Вы, два молодых глупца, нанесли оскорбление всем нашим людям независимо от их веры, и в первую очередь вы унизили меня!
Вокруг собралась уже добрая сотня людей. При этих словах Казима по толпе пробежал ропот. Люди, стоявшие в первых рядах, передавали его слова тем, кто не расслышал их. Фарук и Рагхурам повесили головы. Заявление Казима Али, что они унизили не столько самих себя, сколько его, произвело на них сильное впечатление.
– Вы оба должны быть наказаны за это, – произнес Казим более мягким тоном, когда толпа несколько успокоилась. – Сегодня вечером я посоветуюсь с вашими родителями, какому наказанию вас подвергнуть, а до тех пор вы будете работать на уборке территории вокруг туалета.
В толпе опять стали обсуждать решение Казима Али. Конфликты на религиозной почве обладали потенциальной взрывной силой, и люди были рады, что Казим подошел к этому вопросу с полной серьезностью; многие говорили о дружбе между Фаруком и Рагхурамом. Я понимал справедливость высказанной им мысли, что драки между друзьями разного вероисповедания представляют опасность для всего сообщества. Казим между тем снял с шеи длинный зеленый шарф и поднял его вверх, показывая всем:
– Вы отправляетесь на работу, Фарук и Рагхурам. Но перед этим я свяжу вас вот этим шарфом, чтобы вы не забывали, что вы друзья и братья, в то время как туалетная вонь будет напоминать вам об обиде, которую вы нанесли сегодня друг другу.
Встав на колени, он связал правую лодыжку Фарука и левую Рагхурама. Затем он поднялся и повелительно простер руку в сторону туалета. Толпа расступилась, и парни попытались сдвинуться с места, но у них ничего не получалось, пока они не поняли, что им надо обнять друг друга и идти в ногу. Так, ковыляя на трех ногах, они и пошли в указанном направлении.
Глядя на них, люди, только что пребывавшие в напряжении и страхе, стали смеяться и славить мудрость Казима Али. Они хотели высказать это ему самому, но обнаружили, что он уже направился в свою хижину. Я стоял неподалеку от него и заметил, что он улыбается.
Мне еще не раз случалось увидеть его улыбку в эти месяцы. Казим заходил ко мне два-три раза в неделю, чтобы проверить, как идет лечение пациентов, число которых возросло после того, как доктор Хамид стал принимать наших больных. Иногда Казим Али приводил с собой кого-нибудь – мальчика, покусанного крысами, или парня, получившего травму на стройплощадке рядом с нашими трущобами. Спустя некоторое время я понял, что он приводит ко мне тех, кто по той или иной причине не хочет прийти самостоятельно – или по своей природной застенчивости, или потому, что не доверяет иностранцам, или предпочитая традиционные народные средства всем другим видам лечения.
С этими народными средствами все было не так просто. В целом я относился к ним положительно и сам применял иногда аюрведические лекарства[63 — Аюрведа – древнеиндийская медицина.] вместо современных. Некоторые из народных способов лечения, однако, основывались на чистом суеверии и противоречили не только всем положениям медицинской науки, но и элементарному здравому смыслу. Особенно нелепым казался мне обычай накладывать при сифилисе на верхнюю часть руки жгут из трав разной окраски. Артрит и ревматизм пытались иногда лечить, поднося щипцами раскаленные докрасна угли к коленным или локтевым суставам. Казим Али признался мне по секрету, что не одобряет некоторых крайних средств, но и не запрещает их. Вместо этого он боролся с их применением, поддерживая меня и стараясь почаще посещать, а люди, видя это, следовали его примеру.
Стройное и мускулистое тело Казима Али было туго обтянуто, как рука боксерской перчаткой, смуглой кожей орехового оттенка. Густые, посеребренные сединой волосы он стриг коротко и носил чуть более светлую эспаньолку. Одет он был чаще всего в хлопчатобумажную рубаху и белые брюки западного фасона. Эта простая и недорогая одежда всегда была тщательно выстирана и выглажена, менял он ее не реже двух раз в день. Если бы это был другой человек, не пользовавшийся таким авторитетом, подобную привычку сочли бы чрезмерным щегольством, но Казим Али не вызывал у людей ничего, кроме любви и восхищения. Его безупречно чистые белые одежды воспринимались как символ его духовной и нравственной чистоты и цельности, и в мире непрестанной борьбы за выживание это служило людям моральной поддержкой, в которой они нуждались не меньше, чем в чистой воде из источника.
Свои пятьдесят пять лет Казим носил с небрежной легкостью. Я не раз видел, как он вместе с сыном быстрым шагом тащит на плечах тяжелые ведра с водой из цистерны, не отставая при этом от молодого человека. В своей хижине он садился на тростниковую циновку, не опираясь на руки, – просто скрещивал ноги и опускался, сгибая колени. Он был высоким, красивым человеком, и источником его красоты являлись прежде всего его здоровая, энергичная натура и естественная грация, которые помогали ему мудро руководить людьми и вести их за собой.
Казим Али, с его стройной фигурой и короткими седыми волосами, часто напоминал мне Кадербхая. Впоследствии я узнал, что они не только были знакомы, но и дружили. Но при этом они существенно отличались друг от друга – прежде всего тем, как они завоевывали свой авторитет у людей и как его использовали. Власть Казима покоилась на любви подчиненных ему людей, в то время как Кадербхай добивался ее и удерживал силой своей воли и оружия. Разумеется, Казим Али не мог тягаться с главарем мафии. Какой бы поддержкой трущобных обитателей он ни пользовался, именно Кадербхай изначально одобрил его кандидатуру и обеспечил эту поддержку.
Авторитет Казима ежедневно подвергался проверке – и с успехом выдерживал ее. Он разрешал все возникающие споры, не позволяя им перерасти в серьезные конфликты; он улаживал разногласия, касающиеся собственности и прав на получение тех или иных социальных благ. Многие шагу не могли ступить без его совета – ни устроиться на работу, ни вступить в брак.
У Казима было три жены. Первая из них, Фатима, была моложе его на два года, вторая, Шайла, – на десять лет, а третьей, Наджиме, исполнилось всего двадцать восемь. В первый раз он женился по любви, а во второй и в третий – для того, чтобы поддержать малоимущих вдов, которые иначе вряд ли могли бы найти нового мужа. От этих трех жен у него родилось десять детей – четверо мальчиков и шесть девочек; кроме того, он опекал пятерых детей овдовевших женщин. Чтобы обеспечить женам финансовую независимость, он купил им четыре швейные машины с ножным приводом. Фатима установила машины под полотняным тентом возле их хижины и наняла четырех портных мужского пола для пошива рубашек и брюк.
Доходов этого скромного предприятия не только хватало на оплату труда портных, но еще и оставалась небольшая прибыль, которую делили поровну все три жены. Казим не участвовал в руководстве предприятием и оплачивал все домашние расходы, так что женщины могли распоряжаться вырученными от шитья деньгами по своему усмотрению. Со временем портные поселились в хижинах по соседству с Казимом Али и жили все вместе как одна большая семья из двадцати трех человек, чьей главой был Казим. Жили они дружно и весело, без ссор и недоразумений. Дети играли одной компанией и охотно помогали по дому. Несколько раз в неделю Казим отпирал свою большую гостиную, где проводился поселковый меджлис – общее собрание, на котором все жители могли высказывать свои жалобы и вносить предложения.
Конечно, не все проблемы доходили до сведения Казима Али заблаговременно, позволяя ему предотвратить конфликт, и порой ему приходилось брать на себя функции полицейских и судебных органов этого саморегулирующегося сообщества. Однажды, спустя несколько недель после посещения колонии прокаженных, я пил чай перед домом Казима, когда прибежал Джитендра с известием, что один из местных жителей так сильно избивает свою жену, что того и гляди убьет. Казим Али, Джитендра, Ананд, Прабакер и я поспешили по извилистым проходам к хижинам на окраине поселка, выстроившимся в ряд вдоль мангровых зарослей на болоте. Возле одной из них собралась большая толпа; приблизившись, мы услышали доносившиеся из дома жалобные крики и удары.
В первых рядах, у самой хижины, стоял Джонни Сигар. Казим Али направился прямо к нему:
– Что тут происходит?
– Джозеф напился и все утро избивает жену, – бросил Джонни, с возмущением плюнув в сторону хижины.
– Все утро? Сколько именно времени?
– Часа три, а может, и больше. Я сам только что пришел сюда, услышав об этом, и сразу решил послать за вами, Казимбхай.
Казим Али, сурово нахмурившись, посмотрел Джонни в глаза:
– Джозеф уже не впервые избивает свою жену. Почему ты не остановил его?
– Я… – начал было Джонни, но, не выдержав взгляда Казима Али, опустил глаза. Он, казалось, был готов заплакать от отчаяния. – Я не боюсь его! Я не боюсь никого из здешних, вы это знаете! Но она ведь… она ведь его жена…
Обитатели трущоб жили в такой тесноте, что все интимные подробности их жизни, все, что говорилось и делалось, становилось достоянием соседей. И, как это свойственно людям повсюду, они не любили вмешиваться в чужие семейные конфликты, даже если те принимали слишком бурный характер. Казим Али, понимая это, успокаивающе положил руку на плечо Джонни и велел ему немедленно остановить это непотребство. Как раз в этот момент опять послышались пьяная ругань и удары, а за ними душераздирающий вопль.
Мы поспешили к хижине, чтобы утихомирить разбушевавшегося хозяина, но тут дверь распахнулась – и жена Джозефа буквально вывалилась из нее, без сознания распростершись у наших ног. На ней ничего не было. Длинные волосы были спутаны и испачканы кровью; на спине, ягодицах и ногах виднелись синяки, оставленные палкой.
Люди в ужасе попятились. Я понимал, что ее нагота шокировала их не меньше, чем раны на ее теле. Да и мне было не по себе. В те годы нагота воспринималась в Индии как интимнейший секрет, нечто вроде тайной религии. Появиться в общественном месте в обнаженном виде мог разве что святой человек или сумасшедший. Мои друзья по трущобам, женатые уже много лет, говорили с предельной откровенностью, что за все это время ни разу не видели своих жен обнаженными. Поэтому нам до слез было жалко жену Джозефа, всех охватил стыд за ее унижение.
Тут из хижины с диким воплем выскочил, пошатываясь, сам Джозеф. Брюки его были мокрыми от мочи, грязная футболка разорвана, волосы растрепаны. Лицо, измазанное кровью, было перекошено в тупом пьяном озлоблении. В руках он держал бамбуковую палку, которой избивал жену. Он щурился от яркого солнца; затем его бессмысленный взгляд упал на тело жены, лежавшее между ним и толпой, он выругался и замахнулся палкой, чтобы опять ударить ее.
Шок, парализовавший всех в первый момент, сменился взрывом негодования, и мы кинулись вперед, чтобы остановить Джозефа. Как ни странно, первым к нему подскочил Прабакер, и, хотя Джозеф был гораздо крупнее его, он налетел на пьяного и оттолкнул его. Палку у Джозефа отняли, повалили его и прижали к земле. Он дергался и сопротивлялся, с губ его слетали проклятия и ругательства. Несколько женщин приблизились к его жене, причитая, как на похоронах. Покрыв обнаженную желтым шелковым сари, они подняли ее и унесли.
Толпа была готова линчевать Джозефа, но Казим Али сразу же взял дело в свои руки. Он велел людям разойтись или посторониться, а мужчинам, скрутившим Джозефа, приказал так и держать его на земле. Его следующий приказ поверг меня в изумление. Я думал, что он вызовет полицию или, по крайней мере, велит увести Джозефа и запереть, он же спросил, что именно Джозеф пил, и распорядился принести две бутылки того же самого напитка, а также чарас и чиллум. Джонни Сигару он велел приготовить чиллум для курения. Когда две бутылки неочищенного самогона, называвшегося дару, были принесены, Казим приказал Прабакеру и Джитендре насильно напоить Джозефа.
Несколько крепких парней окружили Джозефа и протянули ему одну из бутылок. Сначала он смотрел на них с подозрением, затем схватил бутылку и с жадностью сделал большой глоток. Парни поощрительно похлопали его по спине и предложили продолжить. Он выпил еще немного и оттолкнул бутылку, сказав, что ему достаточно. Уговоры молодых людей стали более настойчивыми. Они со смехом поднесли бутылку к его рту и силой заставили выпить еще. Джонни раскурил чиллум и передал его Джозефу. Минут двадцать тот попеременно затягивался дымом и пил, пока голова его не упала на грудь, а сам он не растянулся хладным трупом прямо в грязи.
Понаблюдав за храпящим, люди стали расходиться по домам. Но молодым людям Казим Али велел оставаться возле Джозефа и не спускать с него глаз. Затем он на полчаса удалился, чтобы прочитать утреннюю молитву. Вернувшись, он потребовал чай и воду. Среди тех, кто следил за Джозефом, были Джонни Сигар, Ананд, Рафик, Прабакер и Джитендра, а также дюжий молодой рыбак по имени Виджай и худощавый, но сильный парень, работавший грузчиком, которого из-за его блестящей смуглой кожи прозвали Андхкара, что значит «темнота». Они сидели и беседовали, пока солнце не достигло зенита, окутав всех удушающей влажной жарой.
Если вам понравилась книга Шантарам, расскажите о ней своим друзьям в социальных сетях:
 Скачать книгу в формате FB2
Скачать книгу в формате FB2 Скачать книгу в формате TXT
Скачать книгу в формате TXT Скачать книгу в формате EPUB
Скачать книгу в формате EPUB Скачать книгу в формате RTF
Скачать книгу в формате RTF

